Поднимая вопрос об отношении Пролеткульта к «буржуазной культуре», мы объективно встаем и перед вопросом об определении критериев классовости культуры как таковой. Этот вопрос встал с особой остротой сразу после Октябрьской революции 1917 года, причем не только перед большевиками, оказавшимися во власти. В кругах философской и литературной интеллигенции также обсуждался, и не раз, вопрос о классовой природе не только грядущей культуры (может быть, новой и чужой), но и той - прежней, которая была захвачена историческим разломом еще накануне Октября 1917-го. Причем обсуждение сущности каждой из этих культур (прежней и грядущей) шло в русле соотнесения таких понятий, как «буржуазная культура и пролетарская». Вопрос ставился даже шире: так все-таки, что стояло за культурой прежней эпохи - культура или цивилизация , и что грядет ей на смену?
В 1919 г. на одном из заседаний Вольного философского общества этот вопрос именно так и был задан: «Мы только знаем, что случилось «что-то» в мире, и это «что-то» вылилось в формы социальной революции и потрясло старый фундамент, старые устои. Пошатнулось - что? - цивилизация или культура» .
И далее в своем докладе Иванов-Разумник говорил о том, что понятие классовости следует связывать не столько с «культурой», сколько с «цивилизацией». Вот как это звучало в его докладе: «Подходя теперь к вопросу о «пролетарской культуре», я хотел бы сразу сказать: я понимаю, когда говорят «буржуазная цивилизация», «пролетарская цивилизация», но я совершенно не в состоянии понять сочетания понятий, когда речь идет о «буржуазной культуре» или «пролетарской культуре» <…> понятие «цивилизация» является классовым и в то же самое время интернациональным, понятие же «культура» - внеклассовым и в то же самое время народным <…> когда мне говорят о творчестве Пушкина или Льва Толстого, то я чувствую, думаю и знаю, что творчество Пушкина и Льва Толстого идет из глубоких народных корней, что здесь идет речь о культуре не классовой, не дворянской, не буржуазной, а народной» .
И действительно, если подходить к определению культуры с классовой позиции, то в чем в этом случае состоит ее классовость? И вообще, что имеется в виду, когда говорят «классовая культура»? Культура, которая создана в условиях господства того или иного класса? Или культура, которая создана представителями господствующего класса? Или же культура, содержание которой обращено к тому или иному классу?
Вопросов немало.
Если же говорить о пролетарской культуре, то главным становится уже другой вопрос: насколько эта культура является общечеловеческой? И если является, то это значит, что пролетарская культура должна нести в себе все наследие мировой культуры, в противном случае она не может считаться таковой. Эту взаимосвязь по-своему отметил в своем докладе и А. Мейер: «Когда выступают на историческую арену те слои человечества, которые до сих пор в этом делании не участвовали, то им приходится или принять наследие высших господствующих классов, или выйти на «арену» без всякой культуры. Здесь может таиться большая опасность» .
Наряду с этим, вставал и другой вопрос: каково отношение уже самого пролетариата и выступающего от его имени Пролеткульта к культуре «прошлой» эпохи, которая нередко называлась «буржуазной» или «культурой мертвых эпох»?
Этот вопрос в 1920-е гг. оставался открытым, выявляя принципиально разные на этот счет позиции. Одна из них, имевшая место в том числе и в кругах Пролеткульта, несла в себе неприятие прошлой культуры, убеждение в ее исторической завершенности и исчерпанности.
Вот как эту позицию выразил один из идеологов Пролеткульта - П. К. Безсалько, которого называли «самым левым пролеткультовцем»: «Если кто обеспокоен тем, что пролетарские творцы не стараются заполнить пустоту, которая отделяет творчество новое от старого, мы скажем - тем лучше, не нужно преемственной связи » . И далее этот же автор продолжает: «Вы разве не чувствуете, что классическая школа доживает свои последние дни? Прощайте, Горации. Рабочие поэты, писатели образовывают свои общества… не нужно преемственной связи» .
Эту позицию разделял и В. Полянский, являвшийся одним из идеологов Пролеткульта: «Говорят, что нет буржуазной музыки. Неправда, есть. Я знаю, как мы все любим музыку Чайковского, особенно интеллигенция. Но можем ли мы ее рекомендовать пролетариату? Ни в коем случае. С нашей точки зрения в ней очень много чуждых нам элементов. Вся музыка Чайковского, отражающая определенный момент исторического развития, проникнута одной идеей: судьба господствует над человеком » .
Но если всю «буржуазную культуру» списать со счетов истории - что тогда останется? Ответ Андрея Белого на этот вопрос звучал следующим образом: «…если всю культуру, организованную буржуазией, необходимо сдать в архив, то мы должны сдать в архив и все наши собственные представления о пролетарской культуре вместе с произведениями искусства, должны ликвидировать и Бетховена, и Шекспира; и - придти к парадоксальному утверждению: дважды два четыре есть аксиома математики; математика является порождением науки буржуазной; в будущей культуре дважды два будет не четыре, а может быть пять. Вот, к какому абсурду мы приходим» .
И далее, продолжает он: «Характеризуемое течение указывает: задача пролетариата не в том, чтобы быть культурою милитантной, ликвидирующей нашу культуру; пролетариат должен остановиться перед этой культурой и высвободить ее из буржуазных оков» .
Но наиболее последовательная и развернутая критика пролеткультовской критики буржуазной культуры велась Лениным и Луначарским. «Нет, в тысячу первый раз повторяю, что пролетариат должен быть во всеоружии всечеловеческой образованности, он класс исторический, он должен идти вперед в связи со всем прошлым. …Отбросить науки и искусство прошлого под предлогом их буржуазности так же нелепо, как и отбросить под тем же предлогом машины на заводах или железные дороги » , - писал А. В. Луначарский в 1919 г.
Надо сказать, что в кругах Пролеткульта была и другая позиция. Так, например, призыв одного из ораторов на Первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций московской конференции (1919 г.) отбросить «целиком буржуазную культуру, как старый хлам » решением представителей низовых организаций Пролеткульта был отвергнут. Но чаще всего в среде Пролеткульта отношение к прошлому наследию выражалось в форме жесткой альтернативы: либо пролетариат вынужден «довольствоваться искусством прошлых мертвых эпох» , либо он сам создает свою культуру.
почему отторгалась «буржуазная культура»
Надо сказать, что за всем этим неприятием стояло не столько отторжение непосредственно самого содержания «старой » культуры, уже хотя бы потому, что революционные массы ее почти не знали, сколько целый ряд связанных с ней социально-идеологических моментов.
Первый . Это классовое неприятие той части культуры, которая революционными массами воспринималась прежде всего как идеологический атрибут в недавнем прошлом враждебно подавлявшей их системы - системы, обрекающей их на пожизненную эксплуатацию, социальную задавленность и участь быть «пушечным мясом» в бессмысленных и беспощадных войнах. Поэтому объективное недоверие к системе в целом, ее классовое неприятие проявлялось и в их отношении к культуре, и в первую очередь - к той, которая выступала знаком этой системы. Умение же увидеть различие их значений, противоречивость положения культуры в рамках этой системы - такой критический взгляд, исходящий не только из идеологии, но и из ее прочной связи с культурой, далеко не всегда был тогда доступен революционному субъекту. Но одно дело - непонимание этих противоречий, и совсем другое - сознательное выстраивание политики на основе их неразрешенности, что нередко допускалось идеологами Пролеткульта.
Второй . За неприятием «прошлой культуры» проговаривалось угрюмое ощущение того противоречивого положения, в котором оказался на тот период революционный класс и которое он разрешить собственными силами сразу не мог.Это противоречие являлось достаточно серьезным, чтобы им пренебрегать: ценой собственной жизни и трагических потерь революционными массами было завоевано право на культуру, но она для него так и оставалась непостижимой. Это противоречие силой самой революционной ситуации требовало своего безотлагательного разрешения. Но насколько оно было возможным в действительности?
Господствующее сегодня отношение к этой проблеме, как правило, сводится к обвинению революционных масс в генетическом примитивизме или в преступлении грани дозволенного - подлинная культура предназначена лишь для избранных, но не для масс, тем более революционных. Не это ли утверждает В. Е. Борейко в своих следующих суждениях: «Кухарки повалили в литературу. Как будто она начиналась там, где заканчивалось другое ремесло» ? Но, согласно такой позиции, те же кинематографисты перестроечной поры не должны были заниматься политикой, борясь с чиновничьим засильем в искусстве - ведь вопросы управления выходят за пределы их художественного ремесла?
Бесспорно, литература является очень серьезной сферой культуры и творчества со своими законами и со своими требованиями, но попытка самостоятельно постичь ее законы, так сказать, «на ощупь» - через личную практику «пробы пера» - для революционного субъекта тогда являлась едва ли не единственной формой их познания. Другой заход - через систему специального художественного образования пролетариата - являлся задачей долгосрочной перспективы, на тот период трудно решаемой. Но кто в 1920-е гг. мог взять на себя решение этой проблемы? Система образования только налаживалась, интеллигенция же в массе своей находилась в состоянии либо противостояния новому режиму, либо растерянности. Правда, и в ее кругах находились те, кто с энтузиазмом откликнулся помочь в вопросах художественного просвещения революционных масс.
В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о его практике работы в одной из литературных студий Пролеткульта: «Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта… Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось, однако, установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет цикл эпизодических лекций, объединенных общею темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.
Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория, в смысле подготовленности, была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких» .
В любом случае «литературные» пробы революционных масс были еще и способом «выговорить» себя художественно, а значит - и творчески. Конечно, потребность творческого самовыражения здесь имела место, но не это было главным. Главным для этих людей, прошедших трагедию потерь и разрушения, порожденных I Мировой войной, начатой «цивилизованными странами» в 1914 г., а также революционный излом векового устройства, была потребность понять до конца глубинный смысл разворачивающейся истории, и понять не только через практику своего личного участия в ней, но еще через слово.
Кроме того, революционный поворот истории потребовал слова уже и от пролетариата как от субъекта фундаментальных общественных преобразований, тем более что к этому времени ему уже было что сказать. Это даже специально отметил в своем выступлении на одном из заседаний Вольного философского общества правый эсер А. А. Гизетти: «Человечеству нужно коренное обновление, нового слова ждет мир, и новое слово должен принести в мир высвободившийся творческий класс» .
Но для этого революционному индивиду надо было вырваться из водоворота глубоких личных переживаний в то слово , которое было бы по размеру не только его чувствам и мыслям, но и самому времени. Причем слово требовалось именно поэтическое. Это еще один из парадоксов, порожденных Октябрьской революцией: субъект Диктатуры пролетариата востребовал язык поэзии. Этот парадокс надо еще объяснять. Сегодня, в лавочное, прозаическое время с его главным вопросом - сколько стоит? - эти интенции 1920-х гг. рядовому обывателю просто непонятны.
Другое дело, что эти литературные практики революционного субъекта чаще всего так и не обретали достойного художественного результата. В связи с этим представляет интерес рецензия Андрея Белого на первую книгу стихов «Цветы восстания» (1917 г.), принадлежащую пролетарскому поэту и одному из организаторов Петроградского Пролеткульта и журнала «Грядущее» - Александру Поморскому. В ней Андрей Белый анализирует на частном примере основные проблемы литературного творчества революционных масс: «Пробежав эту малую книжечку, чувствуешь все же удовлетворение: сквозь техническое неумение, как трава, пробиваются пульсы самовольного капризного ритма; и сквозь рои слов, заимствованных из брошюр абстрактных, как сквозь скорлупу, проступают ищущие своего выражений образы; <….> в поэзии Александра Поморского ритм, что трава, прорастает наружу, сквозь тротуарные плиты заезженных слов, налагающих печати банальности на воплощения его мирочувствия в слове <…> Не то со словами: слова бледны, абстрактны <…>. Повторяю снова, в средствах изобразительности хромает поэзия т. Поморского; в ритме она процветает; собственно говоря; вся поэзия его - в безобразной, бессловесной поющей стихии души, обреченной до времени пользоваться затасканными словами; и все же: сквозь затасканность слов здесь и там прорезываются уже яркие образы» .
Вообще главный результат деятельности студийцев Пролеткульта заключался не столько в создании нового искусства, на что рассчитывал А. Богданов, сколько в творчестве качественно нового феномена - общественных отношений по поводу освоения культуры (в данном случае - литературы). Но все же наряду с этим иногда рождались и искры того художественного начала, которое заставляло откликаться даже опытных мастеров литературы. Вот один из примеров:
«Когда меня лишили свободы и
посадили в каменный склеп,
где бледный свет едва проникал в маленькое зарешетченное окно
и заставил отдать неволе …лучшие молодые годы
я был спокоен… я верил
Когда лучший друг оказался предателем
и за золото продал дело,
которому мы все служим -
я был спокоен… я верил
Когда наши учителя изменили делу
и оставили нас,
я был также спокоен …я верил
Когда я увидел вместо трудовых масс
жалкую трусливую толпу черни,
проклинающую нас,
я был спокоен… я верил
Когда враги убили мою любимую,
которую я любил больше жизни,
я страдал, но я верил и был спокоен.
Когда враги убили лучших друзей и надругались над их трупами
было безумно тяжело,
но я верил и ждал,
я был спокоен
Когда, наконец, мы победили,
и я окинул взглядом бесконечную вереницу дней,
где каждый имел роковой для меня конец -
И все же, несмотря на то, что результаты литературных и театральных практик чаще всего были художественно несостоятельными, значение их было, тем не менее, велико: оно заключалось в самом творческом процессе сопряжения революционного субъекта, как правило, не умеющего ни читать, ни писать, с литературным словом, с законами его постижения и овладения им. А слово было востребовано: масштаб общественных перемен, участие в боях Гражданской войны за изменение самой основы общественного устройства - все это открывало для революционного индивида новые сущности и смыслы, перспективы и предназначения, требующие своего осмысления, и прежде всего через слово.
Кроме того, творческие занятия в тех же литературных студиях Пролеткульта решали задачу трансформации социальной энергии протеста, которую вскрыл Октябрь 1917 года, в русло конструктивного созидания. Все это, наряду с потребностью осмысления происходящих социальных перемен и своей новой роли, требовало от революционного субъекта соответствующих новому историческому времени форм выражения, но, облаченное в слова либо подручные, либо заимствованные, это содержание так и оставалось художественно не высказанным. Надо сказать, что занятия в творческих студиях Пролеткульта, при всей художественной слабости их результатов, тем не менее имели целый ряд положительных последствий, и это касалось не только возможности приобщения революционного индивида к литературе, к творчеству. Эти занятия приводили его еще и к пониманию того, что литературное мастерство методом «кавалерийской атаки» не одолеть - нужно учиться.
В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о своих занятиях со студийцами Пролеткульта: «На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории - прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безразборному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься. Занятия шли успешно…»
Понятно, что включение революционных масс в художественное творчество требовало соответствующего уровня образования и культуры, не говоря уже о наличии необходимого для этого свободного времени и материальных средств. Понятно и то, что в новые художественные практики революционный индивид включался на основе того культурного багажа, который он унаследовал еще от царского режима, который вместо возможности открывать в школах и университетах творения Пушкина и Шекспира гнал массы погибать на фронтах бессмысленной I Мировой войны. И, как оказалось, на основе этого «культурного уровня» даже в условиях завоеванной власти задача самостоятельного постижения (распредмечивания ) культурного наследия для пролетариата оказалась трудно решаемой.
Третий. Было еще одно достаточно серьезное обстоятельство, вызывающее отторжение революционных масс от культуры прошлой эпохи. Оно заключалось в том, что не все содержание культурного багажа того периода было достойно наследования, годящегося для созидания действительно нового мира: кроме высокой культуры, в нем были продукты художественно изношенные, содержательно изжитые, идейно реакционные. Это надо иметь в виду, особенно тогда, когда мы говорим о «воинственном неприятии» революционным субъектом «старой культуры». И это неприятие имело вполне конкретного адресата, имея в виду в первую очередь - мещанина от революции и культуры. Но такой взгляд - с позиции критики мещанства - сам в свою очередь предполагает определенный уровень развития культуры.
Мещанин как агент частного интереса всегда активизируется в ситуациях исторического излома в надежде, что за спиной революционных сил (каких - это для него уже не столь важно) и посредством их ему удастся пристроиться в «партере» нового общественного расклада. Отсюда идеологический цинизм мещанина, готового вставать под любые знамена тех, кто сегодня у власти, и не важно - это власть капитала, институтов, идеи или традиции. «Обыватель всегда враг революции: если явный, то жестокий, если скрытный, то трусливый. Всегда слуга, раб сильного » - очень точно подметил В. Плетнев.
Революционная ситуация 1920-х гг. не стала исключением. Но если в политике мещанин еще как-то мог прикрыть свою суть под маской угодливого служения лозунгам дня, то его предпочтения, вкусы и проявления в культуре, будучи alter ego его идейной позиции, выявляли его сущность достаточно откровенно. Для революционного субъекта, борющегося с белогвардейцами и Антантой, едва ли не бóльшим противником был именно мещанин, причем именно «революционный» мещанин, у него было даже свое революционное имя - «контра ». Не случайно Маяковский объектом беспощадной критики выбирает в первую очередь партийного мещанина. Революционный субъект также остро реагировал на это мещанство: «Обыватель вырастает в контрреволюционную разлагающую силу. Обывательщина - это туберкулез борющегося класса» . Обострение мещанства было особенно заметным, когда ослабевали позиции революционных масс, и тем сильнее становилось противостояние ему уже на уровне отдельной личности. Это противостояние нашло свое выражение и в литературных практиках Пролеткульта. Вот одно из них:
«Понастроили заборов, понавешали замков
От бродяг и босяков
И открыть боятся двери
И живут в плену как звери:
Всем соседям я чужой
Я - лишь мой
В вашем сердце только зависть
В вашем сердце только страх
Мысль вседневна о ворах
И на окнах всюду ставни
Можно ли быть еще безславней
В светлый день бродить в тюрьме
Жить во тьме
Тот, кто скажет правду громко, нарушает
Тот покой
Темной кельи гробовой
Не спасут замки и двери - ни снаружи, ни снутри
И ворвется свет зари
В ваши смрадные могилы
Где погибли ваши силы
Где не скрылись от судьбы
Вы - рабы
Прочь затворы и заборы -
Вся земля нам дом родной
Жить свободно будем в нем
Эй, садись, пока не поздно!
Ветер свищет и поет
Противостояние революционного субъекта и обывателя имело настолько трагическое измерение, что мимо него не смог пройти ни один крупный художник того времени. И уж тем более, со своей идейной позиции, эту тему не мог обойти Пролеткульт. Вот что писал журнал «Пролетарская культура» - издание Одесского Пролеткульта в 1919 г.: «Везде по всей шири Дерибасовской …вы встречаете одно и то же лицо, пошлое, размалеванное, продажно-лживое лицо-маску послереволюционной буржуазии … Вся Одесса сверкает, звенит и гремит театрами… Не опера и драма, конечно. Это оперетта. Фарс, варьете. Это Пьеро, король одесских театралов. Это Вертинский в шутовской одежде со своими песенками, написанными не кровью и чернилами, а помадой и румянами» . Кстати, этот номер журнала Одесского Пролеткульта выпускался в условиях гражданской войны, и потому на его обложке можно встретить следующую надпись: Дозволено военной цензурой .
А вот еще один пример. По поводу одного литературного вечера, на котором поэт И. Северянин читал стихи «Ананасы в шампанском», другой писатель несколько позже в своей газетной статье напишет следующее: «В том же городе, где истомленные голодом рабочие, еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию, …в том же городе вечером один господин визжит со сцены другим про ананасы и шампанское ». Эти слова не из яростных агиток Пролеткульта. Они принадлежат писателю Андрею Платонову, которого рапповские критики 20-х гг. называли «попутчиком второго призыва».
Не менее напряженной в этом отношении была и ситуация в период НЭПа, о чем достаточно красноречиво было написано в редакционной статье журнала «Рубежи» (1922 г.): «…с одной стороны, культурная спячка, массовая безграмотность, мертвый индифферентизм; с другой стороны, - литературный рынок... наводняется потоком новых (верней, конечно, самых старых) изданий и изданьиц, выросших, как фениксы из пепла, из нэповского навоза: и центр, и провинция покрываются плевками мерзких театров и театриков, в том числе, и многих из так называемых «рабочих театров», лекционные залы переживают резкий подъем богоискательства философского и литературного и т. д., и т. п. И вся эта муть, поднявшаяся со дна взбаламученного НЭПом обывательского моря, без труда находит себе аудиторию: всеобщая, как следствие разрухи, нервная издерганность и умственная отупелость, чем более затаенная, тем более острая ненависть к Революции одних, непонимание происходящего, и отсюда моральная растерянность других, неверие в свои силы и безграничная разочарованность третьих - вот психологическая база НЭПа» .
Так что неприятие мещанства являлось важнейшей содержательной составляющей сложного феномена, именуемого «неприятием буржуазной культуры». Но одновременно неприятие «старой» культуры имело и свои обывательские корни, ибо в ряды революционных масс всегда включены те, кого принято называть «мелкобуржуазным элементом», без этого не обходится ни одна революция.
И, наконец, четвертый . Это проблема общественной актуальности того или иного произведения искусства для конкретного субъекта в конкретно-исторической ситуации. Вот один из примеров: в 1920-е гг. пьесы Чехова не вызывали большого интереса у революционного субъекта. Сами идеологи Пролеткульта это объясняли тем, что пьесы Чехова изначально не были адресованы рабочим «низам», и ставились в театрах они прежде всего не для них . Бесспорно, этот слабый интерес революционного индивида к драматургии Чехова легче всего объяснить бескультурностью и необразованностью революционных масс, тем более, что таковые действительно имели место. Но такое объяснение не дает подступа к ответам на целый ряд возникающих в связи с этим вопросов. Например: насколько актуальным могло быть содержание известной пьесы А. П. Чехова «Три сестры» для красноармейцев, недавно вышедших из боевых сражений с Врангелем или уезжающих на фронт? И почему в тех же красноармейских фронтовых театрах ставились такие пьесы, как «Разбойники» Шиллера? И почему пьеса Гольдони «Турандот» стала символом революционного театра Вахтангова?
Культурные практики 1920-х гг. показали, насколько успешно большевиками решалась проблема социальной доступности классического наследия и насколько непростым оказался вопрос его общественной актуальности для революционных масс. В любом случае за этим фактом была скрыта достаточно серьезная проблема, которая давала о себе знать в культурных практиках не только «низов», но и самой творческой интеллигенции того времени. В этой связи особый интерес представляет фрагмент из письма К. С. Станиславского, отправленного им в 1922 г. из Америки, где он тогда находился на гастролях со своим коллективом. Вот что писал он в этом письме В. И. Немировичу-Данченко: «Даже и не знаю, что писать! Описывать успех, овации, цветы, речи?!.. Если б это было по поводу новых исканий и открытий в нашем деле, тогда я бы не пожалел красок и каждая поднесенная на улице роза какой-нибудь американкой или немкой и приветственное слово получили бы важное значение, но теперь... Смешно радоваться и гордиться успехом «Федора» и Чехова. Когда играем прощание с Машей в «Трех сестрах», мне становится конфузно. После всего пережитого невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радует. Напротив. Не хочется его играть... Продолжать старое - невозможно, а для нового - нет людей» .
Итак, мы видим: как революционные «низы», так и творческая интеллигенция, при всей разности их культурного уровня, сталкиваются с одной и той же проблемой. И дело здесь вовсе не в художественных достоинствах пьесы А. П. Чехова, а в степени сопряжения ее содержания с жизненно важными интересами: в первом случае - революционных субъектов, действующих в конкретных исторических условиях, во втором - деятелей искусства.
История культуры не раз демонстрировала одну из ее закономерностей: степень общественной (не художественной) актуальности того или иного произведения искусства определяется мерой сопряжения его с идейными запросами и движениями эпохи, с одной стороны, и тем, насколько оно отвечает на сущностные вопросы бытия конкретного индивида - с другой. А ведь эти вопросы нередко вызваны необходимостью обоснования онтологических основ и этических принципов личностного бытия, что становится особенно актуально для человека в ситуации исторического излома.
Сегодня, в условиях доминирования абстрактных форм мышления, подход конкретно-исторического анализа представляется некоторой архаикой и излишеством. И, тем не менее, нельзя не признать, что каждая эпоха выстраивает в культуре свои общественные приоритеты (имена, направления, жанры и стили), не обязательно при этом оспаривая художественное достоинство тех произведений искусства, которые оказались вне их. «Общественная актуальность» и «художественное достоинство произведения» - это все-таки разные вещи. Здесь нет прямой и формальной взаимосвязи содержания искусства и истории. Диалектика этого отношения достаточно тонка и сложна, но в любом случае она заставляет задуматься, хотя бы для полемики, в том числе и над такими выводами Пролеткульта: «Нет ничего вечного и постоянного. Все существует лишь для своей эпохи и умирает вместе с ней. В том числе и искусство » .
Вообще надо сказать, что проблема актуальности классики в условиях революционных перемен вызвала к жизни одно глубокое противоречие. Оно заключалось в следующем: тяжелая и трагическая борьба революционных масс за освобождение от власти прежних хозяев их жизни, несущей для них войны, эксплуатацию, унижение и задавленность, - все это востребовало своего выражения на языке искусства, но такое выражение не могло появиться вдруг, оно должно было вызреть, а это, как и любой процесс становления, требует времени. Но мощь и масштаб исторических перемен 1920-х гг. со всем трагизмом общественного излома и глубоким оптимизмом созидания нового мира - все это требовало «своего» искусства, и незамедлительно.
Откуда же это «свое» искусство могло взяться?
Несмотря на отдельные художественные удачи, сам пролетариат его создать не мог. В результате это противоречие нередко разрешалось пролеткультовскими «низами» посредством механического приспособления классики к своему идейному и жизненному запросу. Вот один из примеров такого подхода: «Если содержание пьесы частично для нас кажется неподходящим, мы выкидываем его и вкладываем в речи героев свое содержание. И мы не видим в этом ничего варварского, потому что автор, как таковой для нас мало имеет значение. Если Чехов, предположим, написал какое-нибудь произведение, то пусть для него оно и существует, а мы на сцене из него сделаем то, что нам нужно для организации нашей жизни» .
И таких примеров можно привести немало.
культура: отношение к отчуждению
Надо сказать, что вопрос определения степени буржуазности «старой» культуры оказался тем вопросом, который объективно выявил и методологическую позицию идеологов Пролеткульта. На этой позиции выстраивалась вся их концепция пролетарской культуры, начиная с классово-механистического понимания ее основы. При некоторых поправках эта позиция исходила из, казалось бы, бесспорного тезиса о классовом характере культуры. И действительно, классовый характер общественных отношений пронизывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и культуру. Но применительно к культуре классовость как таковая непосредственно затрагивает прежде всего природу тех общественных форм, в которых она существует и развивается. Например, произведение искусства может существовать в одном случае как чья-то частная собственность или как товар в пространстве частной галереи, и это будет одна форма его общественного бытия; в другом случае - как всеобщее музейное достояние, доступное для всех желающих, и это будет уже другая форма его бытия. Если говорить непосредственно о самом его содержании, то оно в каждой из этих ситуаций остается неизменным. Но в любом случае форма бытия того или иного предмета культуры задается природой господствующих на этот период общественных отношений, и в случае существования в обществе классов она также неизбежно обретает классовый характер.
И совершенно другое дело, когда мы затрагиваем вопрос о классовости художественного содержания того или иного произведения искусства. Решение этого вопроса обнаруживает свою несостоятельность уже на уровне определения критерия классовости. Что может выступать в качестве такового? Социальное положение творца? Но тогда что делать с крепостным художником Тропининым, который писал замечательные портреты помещиков? И уж тем более неправомерно проводить тождество между художественной позицией автора, его идейным мировоззрением и социальным происхождением. Например, монархические взгляды О. Бальзака, сторонника династии Бурбонов, никак не помешали ему в своем творчестве дать художественную критику общественной системы Франции того периода. Вот что об этом писал Ф. Энгельс: «Бальзак... дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества.....из которой я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов - историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» .
Или, может быть, «классовость» следует определять через социальное положение того, к кому адресовано художественное послание? Но искусство имеет природу конкретно-всеобщего , и потому оно адресовано всем и каждому в отдельности, причем независимо от его классового происхождения и положения. Или, может быть, в качестве критерия классовости надо рассматривать поднимаемую в произведении тему? Но этот критерий был характерен для практики превратных форм соцреализма (не путать с творческим соцреализмом).
А если под «классовостью» понимать принципиальность художественного мировоззрения, художественной позиции автора, то в этом случае надо говорить уже о гуманистической подоплеке произведения искусства. И здесь в качестве критерия гуманизма следует рассматривать уже такое понятие, как «отчуждение». Именно отношение к отчуждению как раз и является тем критерием, который определяет меру гуманизма того или иного произведения искусства.
Но отношение к феномену отчуждения бывает разным. В одном случае художник в своем произведении лишь объективистски констатирует феномен отчуждения (или самоотчуждения), что в определенном смысле выступает формой художественной легитимации той позиции, согласно которой отчуждение, конечно, есть зло, но оно неизбежно и неизменно. В другом случае это отношение проявляется в форме протеста против мира отчуждения . В третьем - отношение к проблеме отчуждения проявляется в форме критики , но не самой его сущности как таковой, а лишь порожденных им конкретных форм действительности .
И, наконец, подлинно критическое отношение (оно было характерно для освободительной тенденции советской культуры), предполагающее диалектическое снятие конкретно-исторической формы отчуждения.
Идеологи Пролеткульта, включая А. Богданова, не уловили диалектики снятия классовости применительно к художественной культуре. Оказавшись на позиции недиалектического понимания культуры, с одной стороны, и сохраняя формально-пролетарскую риторику - с другой, идеологи Пролеткульта неизбежно оказывались на позиции классово-механистического толкования культуры. Не случайно А. Гастев называл А. Богданова схематиком .
«буржуазная культура» и революционный вандализм
Рассматривая отношение Пролеткульта к культуре прошлой эпохи, следует отметить, что при всем неприятии «буржуазной культуры» ни в одном из пролеткультовских журналов, по крайней мере, тех, что попадались в руки автору, не встречалось прямых призывов к ее практическому уничтожению. В изданиях Пролеткульта нередко можно было встретить отношение отрицания «буржуазной культуры», например, в такой форме: «Путь культурной самостоятельности требует от избравших его пролетарских организаций …революционной смелости . Переоценка ценностей в области культуры не должна ограничиться лишь борьбой против очевидно-нелепых мещанских наносов и заимствований. Она должна идти в плоскости отрицания буржуазной культуры в ее целом, оставляя за последней лишь историческую и техническую ценность » .
Или, например, в такой форме: «Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся .
Конечно, нельзя не признать, что в среде Пролеткульта существовала тенденция неприятия «старой» культуры, именуемой нередко «буржуазной». И это неприятие имело свои давние исторические корни. Но прежде, чем мы рассмотрим предпосылки этого явления, хотелось бы напомнить, что отрицание «прежней» культуры было характерно не только для революционных масс. Явления такого нигилизма имели место и в культурных сообществах. Так, например, Л. Н. Толстой отрицал Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана . Более того, как писал В. Шкловский, Толстой доходил в отрицании даже до самоотрицания, считая, что для истинного искусства ценны только две его вещи («Бог правду видит» и «Кавказский пленник») .
Но отрицание культуры еще не означает ее материальное уничтожение, хотя как идея и как некое художественное высказывание это имело место в практиках Пролеткульта. За отсутствием широкого выбора фактов на этот счет, как правило, приводят ставший уже хрестоматийным пример со стихотворением Владимира Кириллова «Мы» (1918 г.), в котором есть такие строки:
«Во имя нашего Завтра
— сожжем Рафаэля,
разрушим музеи,
растопчем искусства цветы »
Но уже через год, в 1919 г., тот же поэт пишет уже другие строки, ставшие также хрестоматийным примером:
«Он с нами, лучезарный Пушкин,
И Ломоносов, и Кольцов! »
Означает ли первый пример настроенность революционных масс на тотальное уничтожение культуры? Конечно же, нет. Означает ли второй пример отсутствие в самодеятельных практиках 1920-х гг. фактов революционного вандализма по отношению к культуре? Конечно, нет.
Сегодня в условиях господства мифологических форм сознания и широкого воспроизводства их на основе масс-медийных технологий («индустрии массового гипноза общих мест») происходит стирание границ между разными формами идеального (философией, идеологией, религией, искусством). Вот почему сегодня сама идея гносеологического подхода, особенно применительно к историческому дискурсу, воспринимается чем-то архаичным. В итоге это приводит к тому, что принцип научного анализа подменяется подходом даже не этического, а в некотором смысле судебного разбирательства, с вынесением соответствующего вердикта, не подлежащего пересмотру. Но ведь без научного анализа трудно разобраться, каковы были предпосылки революционного вандализма, его природа, границы, формы.
Конечно, «культурный» вандализм революционных масс был, и это трудно оспаривать, но он не был столь массовым, как его сегодня представляют. Не останавливаясь специально на этой проблеме, отметим основные причины «революционного» вандализма. Вот некоторые из них.
Во-первых , не надо забывать, что первые революционные преобразования, равно как и практики Пролеткульта, осуществлялись в ситуации гражданской войны, усиленной международной интервенцией против новой России. Как писал Л. Троцкий: «Ни белые, ни красные войска не склонны были очень заботиться об исторических усадьбах, провинциальных кремлях или старинных церквах. Таким образом, между военным ведомством и управлениями музеев не раз возникали препирательства » . Культурные же «издержки» любой войны (например, весьма «цивилизованной» Первой мировой войны, начатой «цивилизованными» европейскими государствами) всегда оборачиваются большими и неизбежными потерями, даже если одна из ее сторон ориентирована на сохранение культуры.
Во-вторых, чаще всего за проявлениями вандализма стояло разрушение лишь той части культуры, которая либо выступала инструментом подавления низов, либо была сращена с идеологическими символами прежнего политического режима.
В-третьих , любая революция наряду с пафосом культурного созидания и идеей качественного обновления мира неизбежно несет в себе и разрушение. Если бы не было этих разрушительных проявлений со стороны нового субъектного класса (что возможно лишь в том случае, когда он имеет высокий уровень культуры и образования), то в этом случае можно было бы обойтись одними реформами. Но именно это вековое отчуждение «низов» от культуры, наряду с неразрешенностью других классовых противоречий, обрело такие масштабы, что разрешение их потребовало революционной переплавки уже самих основ общественного устройства. Но Октябрьская революция несла далеко не только разрушение. Главный смысл ее Троцкий выразил следующим образом: «Рабочий класс России под руководством большевиков сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции» .
Понимание одного из наиболее болезненных противоречий Октябрьской революции, когда, разрушая старые формы жизни, она одновременно пытается в обновленных формах сохранить ее культурное содержание, - это понимание дается нелегко, но еще сложнее реализовать эту диалектику на практике, в чем в свое время признавался А. В. Луначарский. В любом случае, следует признать, что законы революционного творческого преобразования действительности в определенной степени сопоставимы с законами изменения мира культуры. Как писал Б. Эйхенбаум, крутые исторические переломы, в какой бы области культуры они ни совершались, никогда не исчерпывают себя в реформах, и потому навстречу «мирным» попыткам эволюции встает стихия революционная, пафос которой - в разрушении старых форм и традиций .
В связи с этим представляет интерес фрагмент из воспоминаний С. Эйзенштейна о своих переживаниях, связанных с его первым опытом осмысления законов искусства, в частности театра. Вот как он это описывает:
«И выползает мысль.
Сперва - овладеть,
потом - уничтожить.
Познать тайны искусства.
Сорвать с него покров тайны.
Овладеть им.
Стать мастером.
Потом сорвать с него маску,
Надо сказать, что деконструктивную составляющую несла и интеллигенция. Так, например, сторонники идей Театрального Октября (объединение левых театров) были нацелены на создание нового революционного театра, который, по их мнению, должен был исходить из отрицания законов классического театра.
Но общественная ситуация 1920-х гг., несмотря на все ее исторические изломы, была такова, что органика культурного пространства революционной России включала в себя самые разнообразные тенденции (и художественные, и идейные), и все они находились в сложных взаимосвязях, зачастую в противоборстве друг с другом, при этом каждая из них имела свой потенциал развития и свой исторический возраст, свои «болезни» и свои взлеты. И все это разное связывалось в единое целое острейшими противоречиями эпохи 1920-х гг., и, самое главное, - возможностью их практического разрешения, и, что еще более важно, - на основе социального творчества масс. Именно творчество революционных масс (включая и тех, кто составлял «низы» Пролеткульта), ориентированное на созидание новых общественных отношений по поводу решения самых разных проблем (обустройства школ, организации клубов , создания рабочих столовых , очистки железнодорожных путей от снега и т. д.), было главной предпосылкой того, что культура 1920-х гг. становилась сферой субъектного бытия как для художника, так и для революционных масс.
Вот один из документов того времени - воспоминания С. Эйзенштейна о 1920‑х гг.: «Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства: ликвидацией центрального его признака - образа - материалом и документом; смысла его - беспредметностью; органики его - конструкцией; само существование его - отменой и заменой практическим, реальным жизнеперестроением без посредства фикций и басен» . И далее:
«Кругом бурлит великолепная творческая напряженность двадцатых годов.
Она разбегается безумием молодых побегов сумасшедшей выдумки, бредовых затей, безудержной смелости.
И все это в бешеном желании выразить каким-то новым путем, каким-то новым образом переживаемое.
Упоение эпохой родит, наперекор декларации, вопреки изгнанному термину «творчество» (замененному словом «работа»), назло «конструкции» (желающей своими костлявыми конечностями задушить «образ») - один творческий (именно творческий) продукт за другим» .
Пролетариат: откуда появляется потребность в культуре
разлом обращает пролетариат к культурному наследию
Рассматривая вопрос отношения Пролеткульта к прошлому наследию, было бы несправедливо сводить его только к нигилизму. Это было бы неверно уже хотя бы потому, что пришедший к власти революционный субъект объективно был заинтересован в культуре: необходимость осуществления начатых им масштабных преобразований по организации нового жизнеустройства требовала и понимания, и знания, и умения. А необходимость этих преобразований диктовалась гигантским распадом прежних форм жизни.
Сегодня, когда революционная эпоха рассматривается и подается «СМИ-идеологией», с одной стороны, в виде сусальной канонизации безгрешных до святости русских царей, а с другой - в виде вульгарного и примитивнейшего пропагандистского лубка о злодеях-большевиках, объективно возникает вопрос: а какова в действительности была общественная ситуация накануне Октября 1917 года? Этот вопрос заставляет нас еще с большим интересом обращаться к историческим документам того времени. Вот один из них - фрагменты из дневника Л. А. Тихомирова, который был известен в прошлом сначала как революционер (активист организации «Земля и воля», «Черный передел», «Народная воля»), а затем как перешедший на монархические позиции автор нашумевшей книги «Почему я перестал быть революционером». Вот что писал он в своем дневнике в январе 1917 г.: «Я часто ломаю голову над вопросом, чем можно спасти монархию? И право - не вижу средств. Анархия полная. … Распоряжения глупые. Полная неспособность обуздать спекуляторов. Цены поднялись - до невозможности жить… И вопрос об измене ничуть не праздный, и все о нем кричат. …В перевороте видят единственный способ уничтожить измену… Знает ли это положение Государь? ….И это - вовсе не настроение одних «революционеров», не «интеллигенции» даже, а какой-то огромной массы обывателей… Теперь против царя - в смысле полного неверия в него - множество самых обычных «обывателей», даже тех, которые в 1905 г. были монархистами правыми и самоотверженно стояли против революции » .
И далее продолжает он: «В Москве - недостаток муки и хлеба. Истинно столпотворение Вавилонское. А «представители союзных стран» банкетуют с представителями нашей «общественности» и совместно говорят речи о грядущей победе. Мильнер также уже рисует в речи своей, как англичане будут устраивать нашу промышленность. Конечно, будут, как устраивают в Индии. Злополучная страна…. Загубила ее эта никуда не годная «интеллигенция», ничего не знающая кроме «прав человека и гражданина» да жалованье на партийной, общественной и казенной службе. Кто учил труду? Кто учил развитию сил , кто учил вырабатывать мозг страны? Все это «реакционно» <…> А наконец, и все мирное крушение неслыханной военной схватки… Но сумеет ли Россия устроиться или нет, а переворот какой-то, кажется, неизбежен » .
И уже в начале февраля 1917 г. Л. А. Тихомиров дает следующую политическую оценку общественному состоянию России на тот период: «Маньчжурская «авантюра» и нынешняя война! Это русская международная, мировая политика целого 20-летия. Ужасно. Никогда за 1000 лет мы не были в такой степени лишены смысла» . А через пять дней он выносит окончательный вердикт: «Правительство у нас совершенно беспристрастно говоря, никуда не годно . Мне кажется, что хуже быть не может. И все идет к перевороту …» .
А вот какая оценка этого кризиса была дана английским писателем, называвшим себя «эволюционным коллективистом» , Г. Уэллсом: «Самое потрясающее из впечатлений, испытанных нами в России, - это впечатление величайшего и непоправимого краха. Огромная монархия, господствовавшая здесь в 1914 году, с ее системой управления, общественных институтов, финансов и экономики, пала и разрушилась до основания, не выдержав беспрерывной шестилетней войны. История еще не видела столь чудовищной катастрофы. В наших глазах это крушение затмевает даже саму революцию. Под жесткими ударами империалистической агрессии насквозь прогнившая Россия, которая до 1914 года была неотъемлемой частью старого цивилизованного мира, рухнула и исчезла с лица земли.… » .
И вот в условиях этой разрухи необходимость создания новых форм жизни объективно заставляла революционного субъекта обращаться и к культурному наследию, и к «буржуазным спецам». Это находило свое выражение и в практиках низовых организаций Пролеткульта, в частности, в политике реактуализации классического наследия, но, как выяснилось, этот вопрос оказался достаточно непростым. Например, на страницах пролеткультовского журнала «Рабочий клуб» одни авторы писали о том, что «пора отказываться от старых актерских приемов «рычаловского трагизма» и комедийности в духе Островского » , а другие авторы заявляли прямо противоположную позицию: «Группа драмкружковцев смотрела «Лес» Мейерхольда и после этого устроила у себя беседу о виденных ужасах, об исковеркании Островского, который бы умер вторично, если бы встал из гроба » .
Пролеткульт, особенно его низовые организации, достаточно часто обращались к культурному наследию, особенно при формировании театрального репертуара рабочих клубов. Вот, например, какие имена были на афишах театральных студий Пролеткульта: Уитмен, Синклер, Бюхнер, Карл Озоль-Преднек . Причем отбор авторов шел на принципиальной основе: «Из репертуарных классовых пьес в репертуар пролетарских театров могут войти только те пьесы, которые не идут вразрез классовым задачам пролетариата и не повергают зрителей в тоску и уныние» .
А вот имена тех писателей, чьи произведения специально подбирались и публиковались в пролеткультовских журналах, альманахах, сборниках («Рабочий клуб», «Гудки», «Скрепа»): Скиталец, Мамин-Сибиряк, Серафимович, Гусев-Оренбургский, Гаршин, Чехов, Горький, Куприн, Л. Толстой, В. Вересаев, Мопассан, В. Поленц, О. Туманян, В. Бласко Ибаньес, М. А. Нексе, Б. Келлерман, Э. Золя, Л. Франк, Д. Лондон, Г. Сенкевич, Л. Мартович.
В пролетарском двухнедельнике «Скрепа» выходили произведения Мих. Артамонова, А. Блока, В. Нарбута, Б. Пастернака, Ант. Пришельца, С. Рубановича, Андрея Белого, Вяч. Шишкова, Б. Пильняка, Ал. Ремизова, Вл. Лидина, А. Чапыгина.
Такой широкий не только в художественном, но и в идейном отношении круг публикуемых в пролеткультовских изданиях имен нередко вызывал возмущение в среде пролеткультовцев: «Товарищи из «Скрепы»! Еще один такой пролетариат и я окажусь буржуем ….»
Кто будет создавать пролетарскую культуру?
пролетарскую культуру должен создавать только пролетариат?
Утверждение идеологами Пролеткульта идеи пролетарской культуры как особой формы общечеловеческой культуры неизбежно выводило на вопрос: если это так, то тогда в чем состоит, собственно, ее пролетарскость ?
Тогда, в 1920-е гг., этот вопрос был не праздным и довольно часто становился предметом жестких дискуссий не только в пролетарских кругах, но и среди творческой интеллигенции. По этому вопросу было несколько позиций.
Одни утверждали, что только пролетариат понимает, какой должна быть пролетарская культура, и только он один может ее создать.
Другие, соглашаясь с этим утверждением, шли дальше: да, это, конечно, так, но ведь пролетариат является частью народа, и потому за ним и надо признавать окончательное авторство пролетарской культуры. Именно об этом как раз и говорил Иванов-Разумник: «Пролетариату в будущем может предстоять только та же самая роль: сокрушив старые формы, он будет иметь возможность, он будет принужден построить новые формы цивилизации, и эти новые формы цивилизации тоже будут интернациональны и классовы. Но в них должно быть влито некоторое творческое содержание. Кто его вольет? Определенный класс, который идет за пролетариатом? Нет. Содержание это вливается не классом, а народом, и пролетариат как часть этого народа, как часть громадного целого, вливает и выявляет в новых формах культуру, которая для нас еще не ясна и которую представить себе мы можем только очень приблизительно » .
Популярность позиции Пролеткульта по поводу того, что только пролетариат может создать пролетарскую культуру, была вызвана еще одним обстоятельством. Дело в том, что революционный субъект, проживавший и переживавший всю остроту и мощь исторических потрясений, вызванных событиями I Мировой войны, двух революций, Гражданской войны, причем в их личностном и трагическом преломлении, искал человеческого отклика на все это в культуре. Но сказать, что искусство накануне революций 1917 г. было устойчиво обращено к пролетариату, - будет явным преувеличением. По большому счету, пролетариат был в некотором роде неприкаянным в художественном контексте предреволюционного времени. Даже Горький с позиции идеологов Пролеткульта считался недостаточно пролетарским. Вот что по этому поводу писал один из первых идеологов Пролеткульта В. Полянский (П. И. Лебедев): «Горький много раз пытался нарисовать фигуру рабочего, и она ему не удавалась. А ведь Горький - великий художник, вышедший из недр трудовых масс… Кто может правильно нарисовать фигуру, отразить верно ее настроение. Несомненно, только сам пролетариат…. Но и тут мы сделаем оговорку: не весь пролетариат… творцами новой культуры являются передовые рабочие, и мы имеем в виду главным образом индустриальный пролетариат» .
Такую же позицию П. И. Лебедев-Полянский отстаивал и в своем докладе «Революция и культурные задачи пролетариата»: «Но кто же все-таки может разрешить проблему пролетарской культуры? Только пролетариат. Только он - путем самодеятельности, путем революционного творчества; другие классы, вернее, группы общества, близкие пролетариату, разрешить этой задачи не могут .
Этот подход имел место и в резолюциях 2-й Петроградской конференции просветительских организаций Пролеткульта: «Пролеткульт призван создать свою художественную литературу и поэзию » . И далее: «Ярче, чем на первой конференции, она (резолюция - Л.Б.) подчеркивает, что «пролетарская культура… может строиться только самостоятельными усилиями того же пролетариата …»» .
Именно это утверждал и А. Богданов - один из ведущих идеологов Пролеткульта: «Выражение «пролетарская культура» означает именно ту культуру, которую вырабатывает новейший пролетариат - индустриальный » . Но если исходить из этого положения, то можно заметить, что ведь и сам Богданов не являлся представителем пролетариата, тем не менее, он не отказывал себе в праве на созидание научно-философских основ пролетарской культуры.
Следует отметить, что позиция Богданова по поводу того, что пролетарскую культуру может и должен создавать преимущественно индустриальный пролетариат, была достаточно популярна. Вот, например, какие аргументы приводились в ее поддержку в редакционной статье журнала «Пролетарская культура»: «Советская власть есть государственно-политическая организация; это, как значится на заголовке «Известий», власть, исходящая из Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Это - политический блок весьма различного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура пролетариата. Контроль и руководство блока вполне нормальны и целесообразны в деле государственной постановки просвещения для всех классов народа. Но ставить дело организации самостоятельного культурного творчества пролетариата под контроль и руководство идейных представителей крестьянства, армии, казачества, городской мещанской бедноты есть, по меньшей мере, большое унижение культурного достоинства рабочего класса, отрицание его права культурно самоопределяться» .
И этот же журнал в 1918 году писал: «В вопросах культуры мы - немедленные социалисты. Мы утверждаем, что пролетариат должен теперь же, немедленно, создавать для себя социалистические формы мысли, чувства, быта, независимо от соотношений и комбинаций политических сил. И в этом созидании политические союзники - крестьянская и мещанская беднота - контролировать его работу не могут и не должны» .
Здесь проявилось характерное для большинства идеологов Пролеткульта отсутствие диалектики, в частности, в понимании общественной природы диктатуры пролетариата. Диалектика подменялась формальным подходом. И хотя Богданов допускал, что не только пролетариат может создавать пролетарскую культуру, все же в качестве ее главного создателя он видел в первую очередь индустриальный пролетариат, оставляя за бортом интеллигенцию, крестьянство, служащих. Как же быть с ними? Ведь по отношению к ним вопрос субъектной и творческой реализации в культуре был не менее актуален, тем более, что эти слои трудящихся на тот период составляли социально доминирующую часть общества. Впрочем, А. Богданов допускает исключение: «Поэт может и не принадлежать экономически к рабочему классу, но если он глубоко сжился с его коллективной жизнью, действительно и искренне проникся его стремлениями… то он способен стать художественным выразителем пролетариата, организатором его сил и сознания в поэтической форме. Конечно, это может случаться не часто » .
Утверждение индустриального пролетариата в качестве доминирующего автора новой культуры было вызвано в некотором смысле политическим недоверием Богданова к другим социальным силам и его определенной боязнью их возможного и нежелательного влияния на сознание пролетариата. Об этом он говорит сам: «…пролетариату нужна своя поэзия. Чтобы не подчиниться чужому, поэтическому сознанию, сильному своей многовековой зрелостью, пролетариату надо иметь свое поэтическое сознание, непреложное в своей ясности…» .
Т. е., согласно позиции Богданова, получается так, что до революции в вопросах культуры пролетариат был классом для иного , а после революции он становится классом для себя ?
Казалось бы, формально похожие утверждения делают и представители низовых структур Пролеткульта, но за этими утверждениями стоит еще и отстаивание пролетариатом завоеванного в смертельных и еще не закончившихся сражениях Гражданской войны своего права как класса на творческую состоятельность в качестве субъекта культуры. «Вам нашего искусства не надо, но вы убеждены, что мы его не создадим. Но это заблуждение: великий класс, победив вас экономически, победит вас и культурно. С той поры как красноармеец вернется с войны, с той поры, как рабочий и крестьянин победят голод, начнется расцвет нашей культуры, нашего искусства . В нашу жизнь и в вашу смерть мы верим непоколебимо » , - так писал журнал «Пролетарская культура» в 1918 году.
Период 1920-х гг. бурлил общественными дискуссиями по поводу того, кто может и кто должен создавать пролетарскую культуру, выявляя все разнообразие позиций по этому вопросу. Вот некоторые из них:
Надо сказать, что позиция большевиков, и в первую очередь Ленина, была резко критической по поводу пролетарского авторства так называемой особой пролетарской культуры. Например, после прочтения статьи В. Плетнева «На идеологическом фронте», в которой автор утверждал: «Задача строительства пролетарской культуры может быть решена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды» , Ленин, подчеркнув в этой фразе слова «только» и «его», на полях заметил: «Архифальшь ». Рядом с другой фразой: «Пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим », вождь написал: «Вздор ». В итоге он пришел к неутешительному для автора статьи выводу: «Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться » . И с этим, конечно, было трудно спорить.
Итак, Октябрьская революция 1917 г. выявила одно очень глубокое противоречие: пролетариат, героически и плодотворно осуществляя себя как субъект, т. е. как творец истории, в тоже время быть творцом собственной культуры не мог. В связи с этим напрашивается вопрос - тогда зачем пролетариату нужно было вести все эти исторические битвы? Во имя чего? Во имя только куска хлеба и политической гегемонии? И если так, то тогда в чем состояла социалистичность Октябрьской революции, отличающая ее от других типов революций? В любом случае вопрос - откуда революционным массам взять свою культуру - оставался открытым. Если пролетариат не может ее создать, то тогда возникает вопрос - кто сможет? Интеллигенция? Да, интеллигенция, может быть, и сможет, но захочет ли? Зачем ей обслуживать чуждый ее интересам и тем более ее вкусам пролетариат?
Из всего этого, казалось бы, напрашивается далекий от оптимизма вывод: если пролетариат объективно не мог создавать «свою» науку и «свое» искусство, то не означает ли это, что для него оказывалась закрытой дорога к творчеству вообще? Ведь культура, как принято считать, является едва ли не единственным пространством креативности. Этот вопрос обретал особую актуальность еще в связи с тем, что характер труда пролетариата, как правило, в тот период был далек от творчества; еще долгий и долгий период этот труд оставался чаще всего физическим и тяжелым. Это одна сторона вопроса.
откуда пролетариат возьмет волю к творчеству?
Была и другая: даже в случае, если у пролетариата и была бы возможность созидать культуру, спрашивается - откуда у него появится сам посыл к творчеству, да еще у целого класса? Да, революция дает пролетариату возможность созидать, но откуда у него возьмется эта воля к творчеству , если до этого он веками был отчужден от него, равно как и от самого культурного наследия? Ведь сама возможность созидания еще не рождает интенций творчества, воли к творчеству , а без этого не может быть никакой культуры.
Этот вопрос ставился на повестку дня в 1920-е гг. представителями разных культурных и идейных кругов, хотя и с позиции разной заинтересованности в его решении. Вот, например, что говорил по этому поводу Н. Н. Пунин: «Пролетариат пришел не для того, чтобы поглотить цивилизацию тех или иных классов, но чтобы раз навсегда доказать всем классам, что в нем живет организованная воля к творчеству, к творчеству все новых и новых форм бытия, к творчеству все более сложных и качественно все более прекрасных ценностей, показать, доказать и тем самым навсегда разрушить и смыть всякие попытки тех или иных классов процвести чудными и роскошными ростками на плечах человечества. Вот так понимаю я задачу пролетариата и так связываю я эту задачу с его культурным строительством» .
А вот как вопрос о воле к творчеству ставил А. А. Мейер, являясь представителем уже другого идейного течения: «Когда спрашивают, какова будет роль пролетариата, то хотелось бы к этому прибавить еще такое слово - какова она должна быть, какова должна быть здесь воля самого пролетариата, ибо если это нечто живое, то оно должно обладать волей, и если это только механически складывающаяся вещь, то, конечно, тогда ни о какой культуре говорить не приходится » .
Так вот, воля к творчеству у революционного субъекта была, и это была именно революционная воля. И возникала она не из абстрактной любви в креативности, а из жестких материальных условий: разрухи, вызванной I Мировой войной и навязанной международной военной интервенцией, а также из неразрешенности тех противоречий, которые взорвались революциями 1917 г., разламывая жизненную ситуацию едва ли не каждого, со всем нажитым укладом и человеческими связями.
Именно эти противоречия действительности как раз и заставляли революционного субъекта обращаться к культуре, с одной стороны, как к источнику знания, мастерской и инструментарию, а с другой - как к миру отношений, свободных от подавления человека человеком и, более того, утверждающих достоинство человека, причем не абстрактного, а прежде всего - человека труда.
Итак, как выясняется, воля к творчеству у революционного субъекта была, но это не решало два основных вопроса, которые мы еще раз повторим.
Первый: на каком поприще пролетариат может реализовать себя как субъект творчества, кроме истории, кроме баррикад?
Второй : кто все-таки может создать культуру, которая была бы Для пролетариата, От пролетариата и О пролетариате?
Эти вопросы тогда, в 1920-е гг., требовали безотлагательного разрешения.
Решений было несколько, но об этом речь пойдет уже в следующей статье.
На машиностроительном заводе «Дукс» силами и средствами рабочих (из необходимых 50 тыс. руб. 30 тыс. были собраны рабочими) был создан клуб-столовая. См.: Рабочий класс Советской России в первый год диктатуры пролетариата // Сборник документов и материалов. М., 1964. С. 300-301. 2-ая Петроградская конференция пролетарских культурно-просветительских организаций. 5-9 июня 1919 г. // Пролетарская культура. 1918, № 2. С. 32.
Литература 1920-х годов "полярна", представляет собой борьбу полюсов, и полюса эти обозначаются все ярче и ярче в полемике РАПП с “Перевалом” . С одной стороны - крайний рационализм, ультраклассовость, рассмотрение искусства как орудия политической борьбы; с другой - отстаивание общечеловеческих ценностей в противовес классовым. В схватке РАПП и Перевала проявились не только разные взгляды на искусство, но и разные категории, которыми мыслили оппоненты. Рапповцы стремились перенести в литературную критику социально-политические лозунги классовой борьбы, перевальцы же обращались к предельно широким образам-символам, имеющим глубинное художественное наполнение и философский смысл. Среди них - образы Моцарта и Сальери, "сокровенной богини Галатеи" (так называлась одна из книг критика Д.Горбова, ставшая знаменем “Перевала”), Мастера и Художника.
Итак, РАПП и "Перевал". Две эти группировки отражали, условно говоря, два полюса литературы второй половины 20-х годов. На одном - догматически понятый классовый подход, возведенный до истерии классовой ненависти, насилие над литературой и личностью - личностью художника, писателя, героя. На другом - искусство как цель и жизнь художника, оправдывающая его общественное бытие. Каким образом нашли свое организационное выражение столь полярные представления об искусстве, а значит, и о жизни вообще? Обратившись к истории возникновения этих групп, мы сможем понять самые важные стороны литературного процесса той эпохи.
РАПП
Как организация со своей строгой иерархической структурой РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) оформилась в январе 1925 года, на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей, но история этой организации начинается на 5 лет раньше: в 1920 году создается ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей), возглавленная группой поэтов-пролеткультовцев "Кузница". В 1922 в "Кузнице" происходит раскол и руководство переходит к другой организации, "Октябрь". В 1923 году формируется МАПП (Московская АПП), и так до бесконечности. Вся рапповская история – это постоянные преобразования и реорганизации, вызванные значительным численным ростом ее членов (больше трех тысяч человек к середине 20-х годов), созданием региональных отделений, например, в Москве, Ленинграде, Закавказье. В итоге к 1928 году ВАПП превращается в ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей). Так как изменение названий многочисленных рапповских подразделений не отразилось на позиции организации, в истории литературы принято одно наименование - РАПП. Моментом четкого оформления принципов ее деятельности можно считать декабрь 1922 года, когда в редакции «Молодой гвардии» состоялось собрание, в котором приняли участие ушедшие из «Кузницы» писатели: Семен Родов, Артем Веселый, Александр Безыменский, Юрий Либединский, Г.Лелевич, Леопольд Авербах. На этом собрании и было принято решение о создании группы «Октябрь», с которой, собственно, и начинается рапповская история.
Летом следующего года выходит рапповский журнал "На посту" , в котором направление заявило о себе во весь голос. Сложилось особое литературно-критическое течение - "напостовство", отличавшееся разносной и заушательской критикой всех противоположных или хотя бы нейтральных к нему литературных явлений. Именно в это время в литературных кулуарах появляется такое понятие, как «рапповская дубинка», всегда стоящая наготове в приемной редакции. «Мы вовсе не поставили в дальний угол нашу, столь популярную у наших противников, напостовскую дубинку. Она, к нашему великому удовольствию, всегда с нами» , - утверждала редакционная статья в 1929 году. Отличительной чертой рапповских критиков, вошедших в редколлегию журнала «На посту», а затем и «На литературном посту» (С.Родов, Г.Лелевич, Б.Волин, Л.Авербах, В.Ермилов), была молодость и крайняя необразованность. Именно это часто становилось предметом злых насмешек их оппонентов из «Перевала», куда более образованных, которые объясняли, например, Владимиру Ермилову, что Киплинг никогда не был американским колонистом (на чем построил социологический анализ его творчества критик РАПП, называя его «поэтом американской буржуазии» ), что слово «фельетон» вовсе не переводится с французского как «шевеление пустяков» и т.д. Рапповцы отряхивались после ушата холодной воды, исправляли прежние ошибки и тут же делали новые.
Первый же номер «На посту», вышедший в 1923 году, показал, что полемика будет вестись по всем направлениям, но, в первую очередь, с ЛЕФом и «Перевалом». Вот лишь названия статей, увидевших свет в этом журнале: «Клеветники» Б.Волина(о рассказе О.Брика), «Как ЛЕФ в поход собрался» и «А король-то гол» С.Родова(о поэтическом сборнике Н.Асеева), «Владимир Маяковский» Г.Лелевича, в которой он рекомендовал поэта как типичного деклассированного элемента, подошедшего к революции индивидуалистически, не разглядевшего ее подлинного лица. Здесь же опубликована ерническая статья о ГорькомЛ.Сосновского«Бывший Глав-Сокол, ныне Центро-Уж». «Да, плохо сел бывший Глав-Сокол, - иронизировал над взглядами писателя начала 20-х годов ее автор. – Лучше бы нам не видеть его, плетущимся в сырую и теплую расщелину вслед за ужом» .
Однако довольно скоро, в ноябре 1923 года, рапповцы определили главного своего противника – «Перевал» и А.К.Воронского, стоявшего тогда во главе журнала «Красная новь». С ЛЕФом, в лучших традициях военной стратегии и тактики, был заключен союз, скрепленный договором, подписанным обеими сторонами. К этому договору было присовокуплено специальное тайное соглашение, направленное лично против Воронского. Его подписали от ЛЕФа В.Маяковскийи О.Брик, от РАПП – Л.Авербах, С.Родов, Ю.Либединский. Действительно, все это напоминало не литературную деятельность, а подковерную политическую борьбу за власть в литературе, беспринципную и жестокую драку, при которой собственно художественные вопросы утрачивают свою актуальность.
Но в том-то и дело, что рапповцы так и понимали свою работу! Они полагали, что участвуют в деятельности политической организации, а не творческой, часто декларировали это. «РАПП – это политическая (а не только литературная) исторически сложившаяся боевая организация рабочего класса, и выходить из нее нельзя ни мне, ни тебе, - обращался в письме к А.СерафимовичуА.Фадеев, - это возрадует только классовых врагов» . Именно это обуславливало и тон полемики, и бесконечные перестройки и реорганизации, и лозунги и приказы, которыми рапповцы пытались воплощать в жизнь свою творческую программу, и, самое главное, то, что критики РАПП часто путали жанры литературно-критической статьи и политического доноса.
Рапповцы представляли тот полюс общественного сознания, который отстаивал классовое в противовес общечеловеческому, поэтому и размышляли они исключительно о пролетарской литературе. Это было зафиксировано в самом первом документе РАПП – «Идеологическая и художественная платформа группы пролетарских писателей “Октябрь”», принятом по докладу С.Родова«Современный момент и задачи художественной литературы». Именно с того заседания, когда Родовзачитывал свои тезисы в редакции «Молодой гвардии» в декабре 1922 года, и ведет свою историю так называемая РАППовская ортодоксия – один из многочисленных вариантов вульгарно-социологического подхода к современной литературе. «Пролетарской, - говорил докладчик, - является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата как переустроителя мира и создателя коммунистического общества» . Кочуя как заклинание из документа в документ, эта фраза затверживала идею разделения и литературы, и всего искусства по жестким классовым границам. Таким образом, в идеологии РАПП обнаруживались очевидные рудименты Пролеткульта и концепции Богданова. Пролетарская литература, созданная пролетарием и предназначенная для пролетариев и непригодная, обреченная на непонимание для любого другого класса, предполагала непреодолимые классовые границы, воздвигнутые внутри искусства, лишавшие литературу самой ее сути: общечеловеческого содержания. Эта идея, тогда весьма распространенная, обосновывалась в школе профессоров В.Ф.Переверзева(МГУ, Комакадемия) и В.М.Фриче(Институт красной профессуры), позднее, уже в начале 30-х годов, квалифицировалась как вульгарно-социологическая.
Ощущая себя самыми истинными и бескомпромиссными защитниками классового подхода в современной литературе, рапповцы весьма враждебно относились к другим писателям, квалифицируя их либо как классовых врагов, либо как попутчиков: «Мелкобуржуазные группы писателей, "приемлющих" революцию, но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как самый слепой анархический мужичий бунт ("Серапионовы братья" и т.п.), отражают революцию в кривом зеркале и не способны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата», - утверждал Г.Лелевичв своих тезисах «Об отношении к буржуазной литературе и промежуточным группировкам», принятых на первой московской конференции пролетарских писателей (1923). С ними возможно даже сотрудничество: пусть будут "вспомогательным отрядом, дезорганизующим противника", т.е. лагерь "эмигрантских погромных писателей типа Гиппиус и Буниных" и "внутрироссийских мистиков индивидуалистов типа Ахматовых и Ходасевичей". Именно такая роль отводилась Г.Лелевичемчленам братства пустынника Серапиона. При этом наставники из РАПП брались "постоянно вскрывать их путанные мелкобуржуазные черты" . Такое отношение к "попутчикам" пройдет через всю историю организации.
Термин "попутчик" возник в среде немецкой социал-демократии в 1890-е годы, в начале 20-х впервые в отношении к литературе был применен Троцким, который не вкладывал в него негативный смысл. Рапповцами употреблялся как уничижительный: в попутчики попадали все советские писатели, не входящие в РАПП (Горький, Маяковский, Пришвин, Федин, Леонови др.), следовательно, не понимающие перспектив пролетарской революции и литературы. Н.Огнев, которого рапповцы рекомендовали писателем с реакционным нутром, попавший в попутчики, в 1929 году писал: "Для текущего момента можно установить примерно такой смысл слова "попутчик": "Сегодня ты еще не враг, но завтра можешь быть врагом; ты наподозрении". Оскорбительность подобного деления художников на истинно пролетарских и попутчиков многими ощущалась драматически.
"На посту" (1923-1925) рельефно выявил характер РАПП: каждый его номер - драка с другими группировками, личные оскорбления и политические доносы на прочих участников литературного процесса. За все два года РАПП не продвинулась в решении истинно творческих, а не конъюнктурных вопросов, ни на шаг. Виной тому – сектантство, трактовка классовости как кастовости, когда слово "пролетарий" произносится так же чванливо, как раньше произносили "дворянин". Это явление стали называть в политическом обиходе комчванством. Но главным была претензия на монопольное руководство всей литературой, отношение к собственной организации как к политической партии, имеющей безусловную гегемонию в сфере искусства. Эти обстоятельства стали причиной появления резолюции ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года.
Характер отношения власти и РАПП не вполне понятен. Вероятно, до какого-то времени РАПП вполне устраивал партийное руководство, давая возможность дистанцироваться от самых вызывающих акций и политических разгромов в сфере литературы, как это было, например, в 1929 году, когда травлю Б.Пильняка, Е.Замятина, А.Платоноваи М.Булгаковаорганизовал и возглавил РАПП (безусловно, при полной партийно-государственной режиссуре), и в то же время демонстрировать к ним свою непричастность, если это было необходимо. С другой стороны, партийное руководство не могла не раздражать и оголтелость, и даже полуграмотность рапповских деятелей, их положение в литературе, претензия занять место своеобразной руководящей литературной партии. Эта функция могла принадлежать только ВКП(б) и никому больше. Резолюция 1925 года, отказавшее рапповцам в прямой партийной поддержке («Гегемонии пролетарских писателей еще нет, - говорилось в документе, - и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию») было попыткой указать РАПП его место, одернуть, и в то же время дистанцироваться от него в глазах литературной общественности.
Весь пафос резолюции отрицал то, на что пытались претендовать руководители РАПП: стать литературной партией, монополизировать руководство литературой, громить попутчиков и всех, кто окажется рядом. Однако уже в 1929 году, во время проработочных кампаний согласованность действий РАПП и партийного руководства не вызывала сомнений: РАПП воспринимался как передовой отряд, которому поручено выполнение самых грязных задач, связанных с проведением в жизнь официальной литературной политики.
После резолюции 1925 года внутри организации происходят некоторые преобразования. Д.Фурманов, активный член РАПП, борется с «“родовщиной” как с целой системой методов, форм и приемов политиканства и хитростей на фронте пролетарской литературы». Именно с Семеном Родовым, главным противником Фурмановав этой борьбе, связывается в сознании современников все негативные стороны напостовства. «Потрясающий схематизм мышления, несравнимое ни с чем доктринерство, колоссальнейшее упрямство, необыкновенная способность все большое сводить к малому и глубокое - к мелкому, нестерпимая ура-классовость и ура-ортодоксальность – все эти качества, произросшие в питательном бульоне примитивнейших знаний, и составляют Родовакак литературное явление» , - характеризовал его один из современников. В тяжелой политической внутрипартийной борьбе Фурмановдобивается отстранения Родова, Г.Лелевичаи Вардинаот руководства организации и осуждения «вредной линии левых фразеров». В результате победы, которую одерживает Фурманов, заручившийся поддержкой резолюции ЦК ВКП(б), журнал "На посту" закрывается.
Однако уже через год он возродился под новой обложкой - "На литературном посту". Во главе журнала встал Л.Авербах. Молодой человек (тогда ему исполнилось всего двадцать три года), отличавшийся неукротимой энергией, способностью к лавированию и мимикрии, вознесенный на рапповский Олимп, разгромивший своих бывших соратников, он яростно третировал “попутчиков”, сам являясь самым далеким попутчиком русской литературы. Великолепную характеристику дал АвербахуВоронскийв памфлете «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», единственном своем произведении, где он позволил себе столь резкие выпады против своего литературного оппонента. «Вы, Авербах, первый, - которые путают передержку с выдержкой, литературный спор с литературным доносом, а критику с пасквилем» , - писал Воронский. Размышляя о своем литературном оппоненте, он создал яркий собирательный портрет рапповского руководства: «Авербахи - не случайность. Он – из молодых, да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся… Легкость и немудреность их багажа конкурируют с готовностью передернуть, исказить, сочинить, выдумать… Одно они усвоили твердо: клевещи, от клеветы всегда что-нибудь да останется» .
Стиль журнала, во главе которого теперь стоял Авербах, изменился не слишком. Попытки перейти от организационной возни к творческой программе не принесли слишком больших успехов: она обернулась бесконечной вереницей лозунгов, сменяющих друг друга чуть ли не через месяц, а то и недели. Чиновники от литературы рассылали всевозможные циркуляры о том, как надо и не надо писать, но настоящей литературы внутри РАПП от этого не прибавлялось.
Лозунгов было много. Лозунг реализма , потому что «реализм является такой литературной школой, которая более всего подходит к материалистическому творческому методу», потому что пролетариат как никакой другой класс нуждается в реалистическом взгляде на действительность. Рапповская концепция реализма получила наиболее яркое воплощение в статье А.Фадеевас характерным названием «Долой Шиллера». Уже из названия ясно, что концепция реализма у Фадеевастроится на отрицании романтизма.
Романтизм и реализм осмысляются Фадеевым, который следует плехановской традиции, не столько в эстетическом плане, сколько в философском. «Мы различаем методы реализма и романтики как методы более или менее последовательных материализма и идеализма в художественном творчестве». Романтизм отвергается Фадеевым как «опоэтизирование и мистифицирование ложной, банальной и поверхностнейшей видимости вещей», именно поэтому ему противостоит реализм с его трезвым взглядом на действительность: «Художник, овладевший этим методом, сможет давать явления жизни и человека в их сложности, изменении, развитии, “самодвижении”, в свете большой и подлинной исторической перспективы» .
Из лозунга реализма вытекал следующий пункт творческой программы: "учеба у классиков ". Ведь именно в классической литературе реализм достиг своей кульминации, и современному писателю нужно взять у классика именно это умение. Чаще всего как объект изучения рапповцами назывался Л.Н.Толстой. Результатом такой учебы у классика явился роман А.Фадеева«Разгром», толстовские традиции которого и в построении образов, и в обращении к приемам психологического анализа очевидны.
Однако реализм («диалектико-материалистический метод») трактовался рапповцами очень своеобразно, не столько как искусство познания жизни, сколько искусство разоблачения. С этим связано появление лозунга "срывания всех и всяческих масок ", заимствованный из ленинской характеристики Толстого, его «кричащих противоречий». Важность этого лозунга для творческой программы РАПП обуславливалась тем, что ни один класс, как полагали рапповцы, не нуждается в таком трезвом и реалистическом взгляде на действительность, как пролетариат. «Мы работаем над созданием школы, ставящей себе задачу выработки последовательного диалектико-материалистического художественного метода. Мы выступаем под знаменем реалистического искусства, срывающего с действительности все и всяческие маски (Ленино Толстом), реалистического искусства, разоблачающего там, где романтик надевает покровы, лакируя действительность» .
Но более всего методологию и сам тип мышления рапповцев, основанный на насилии в отношении к литературе, к художнику, к критику - к человеческой личности вообще, обнажил лозунг "за живого человека в литературе ", ставший в центр дискуссии о "живом человеке", развернувшейся во второй половине 20-х годов. Именно с потребностью показать разносторонний человеческий характер современной эпохи, был связан лозунг углубленного психологизма , правда, понимаемый весьма примитивно: он требовал изображения борьбы сознания с подсознанием. Подсознание трактовалось очень уж узко, по-фрейдистски, как загнанные в подсознательное сексуальные комплексы. (Именно с такой трактовкой подсознательного спорил Воронский, говоря: «Бессознательное фрейдисты сводят исключительно к сексуальным мотивам, не отводя никакого места иным, не менее могучим побуждениям»). Психологизм ассоциировался у рапповцев с реализмом, с достижением всей полноты показа внутренней жизни человека.
Весь комплекс положений творческой программы РАПП (реализм, соответствующий диалектико-материалистическому методу, срывание всех и всяческих масок, углубленный психологизм, учеба у классиков, живой человек) привел к постановке вопроса о самой специфике искусства. Попыткой ответить на этот вопрос стала "теория непосредственных впечатлений ", автором которой в рапповских кругах был Ю.Либединский. Само понятие он заимствовал у Белинского. «Непосредственные впечатления», с точки зрения писателя, есть наиболее ясные, светлые, очищенные от социально-классовых наслоений впечатления жизни человека, хранящиеся в глубинах его подсознания под напластованиями позднейшего опыта. Задача художника – извлечь их на поверхность, обнаружить знания, хранящиеся в глубинах памяти, о которых человек и не подозревает. «Человек знает о мире гораздо больше, чем он думает, что он знает, - пытался сформулировать положения своей теории Ю.Либединский. – Искусство как раз и берет за строительный материал именно это знание… Воронскийэто “знание” называет иногда подсознательным, иногда интуитивным…» .
Нужно сказать, что рапповцы вовсе не были оригинальны, обращаясь к подсознательному. Фрейд, теория психоанализа, венская школа оказались тогда в центре литературно-критического сознания, достаточно указать на книгу Л.Выготского«Психология искусства», написанную в 20-х годах, но увидевшую свет лишь в начале 1960-х. Так же вовсе не случайно прозвучала у Либединскогои ссылка на Воронского: именно Воронскийразрабатывает в этот период проблему подсознательного в творческом процессе, но не сводит подсознательное лишь к фрейдистским комплексам, расширяя его, включая в его сферу и самые светлые явления человеческого духа. В статье «Искусство видеть мир» Воронскийкуда более четко, чем это удалось писателю из РАПП Ю.Либединскому, высказывает сходные идеи. Задача искусства, по Воронскому, «увидеть мир, прекрасный сам по себе… во всей его свежести и непосредственности… Ближе всего к этому мы бываем в детстве, в юности, в необычайные, в редкие моменты нашей жизни. Тогда нами как бы раздирается кора, скрывающая от нас мир, человек неожиданно для себя в новом освещении, с новой стороны видит предметы, вещи, явления, события, людей; в самом обыкновенном, примелькавшемся он вдруг находит свойства и качества, какие он никогда не находил, окружающее начинает жить своей особой жизнью, он открывает вновь мир, удивляется и радуется этим открытиям. Но такие открытия, однако, даруются человеку не часто. Запечатленность, свежесть восприятий зависит от силы, от чистоты, от непосредственности их». Дело в том, как полагал Воронский, что те самые девственно чистые образы мира закрыты от человека: «Привычки, предрассудки, мелкие заботы, огорчения, ничтожные радости, непосильный труд, условности, болезни, наследственность, общественный гнет, смерти близких нам людей, пошлая среда, ходячие мнения и суждения, искривленные мечтания, фантазмы, фанатизм с ранних лет застилают нам глаза, притупляют остроту и свежесть восприятия, внимания – оттесняют в глубь сознания, за его порог, самые могучие и радостные впечатления, делают неприметным самое дорогое и прекрасное в жизни, в космосе». Для такого человека красота мира не видна, бескорыстное наслаждение ею невозможно. У искривленного общественного человека должны быть и искривленные восприятия мира, образы и представления. В нас, как в зеркале с неровной поверхностью, действительность отражается в искаженных формах. Мы более похожи на бальных, чем на нормальных людей. Прошлое, господствующая капиталистическая среда, пережитки миллионы людей делают такими больными и ненормальными. В современном обществе равновесие, хотя бы и очень условное, между человеком и средой является редким и счастливым исключением». Задача искусства в том, чтобы открыть читателю или зрителю подлинные образы мира: «Неподдельное, подлинное искусство иногда сознательно, а еще чаще бессознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти подлинные образы мира. В этом – главный смысл искусства и его назначение» .
В своих статьях, и в первую очередь «Искусство видеть мир (О новом реализме )» и «Искусство как познание жизни и современность (К вопросу о наших литературных разногласиях )», Воронскийкуда более профессионально сформулировал комплекс идей, о которых пытался говорить Либединский, строя свою «теорию непосредственных впечатлений». Логично было бы ожидать сближения позиций двух критиков, однако для РАПП важнее была не творческая программа, а групповая борьба: теоретики РАПП нападали за эти идеи на Воронского, усматривая в них идеалистические взгляды, в первую очередь, философию Бергсона. Сближения не произошло, напротив, вражда все разгоралась.
По мнению С.И.Шешукова, автора первой монографии об истории РАПП, «система взглядов, проводившаяся и отстаивавшаяся ряд лет, была не чем иным, как художественной платформой РАПП, которая имела свои положительные результаты… Теоретические проблемы, выдвигаемые рапповцами, становились предметом суждений и споров всей творческой и научной общественности страны, что уже само по себе содействовало развитию теоретической мысли». Однако далее исследователь признавал, что «именно плодотворных результатов рапповцами достигнуто мало. Сколько было шуму, сколько выпущено книг, брошюр, сколько конференций, пленумов, совещаний посвящено творческим вопросам, а в конце концов результаты оказались скромными» . Действительно, творческая программа не может быть предметом политических дискуссий и внедряться приказами, а именно политическая дискуссия и оголтелая борьба была стихией РАПП.
РАПП много воевал и почти всегда побеждал, и не только в дискуссии о живом человеке - и в этом еще один парадокс эпохи. В одном из документов перечисляются поверженные ими враги: ассоциация боролась «против троцкизма (Авербах- бывший любимец и подопечный Троцкого, был членом троцкистской оппозиции, после ее разгрома, уловив политическую конъюнктуру, яростно сокрушает Троцкого), воронщины, переверзевщины, меньшевиствующего идеализма… лефовщины, литфронтовщины (Литфронт - организация внутри РАПП), против правой опасности, как главной, и левого вульгаризаторства, против великодержавного шовинизма и местного национализма, против всех видов гнилого либерализма и примиренчества к буржуазным антимарксистским теориям» . К концу своей деятельности они умудрились поссориться с «Комсомольской правдой» и ЦК Комсомола. Критическая масса униженных и обиженных РАПП стремительно нарастала.
Кроме того, бесконечная грызня буквально со всеми участниками литературного процесса привела к глубокому кризису организации. О творчестве речь уже не шла - выбрасывались бесконечные лозунги, с помощью которых стремились поправить положение дел. Но дела шли все хуже и хуже: настоящая литература создавалась вне РАПП, вопреки ей, несмотря на удары рапповской дубинки работали Горький, Леонов, Шолохов, Каверин, Пильняк, Катаев, Пришвин...
Одна из последних акций РАПП - призыв ударников в литературу. Здесь сказались одна из самых характерных черт деятельности этой организации: копирование политических лозунгов и директивное привнесение их в творческую работу. Начало тридцатых годов – это время, когда разворачивается социалистическое соревнование, в общественной жизни появляется такая фигура, как ударник социалистического труда. С точки зрения РАПП, именно такие рабочие, сознательные и активные, должны пополнить писательские ряды. И рапповцы развернули вербовку рабочих в литературу! Множество людей первичные рапповские организации сорвали с заводов и фабрик, внушили им наивную мысль, что рабочий-ударник очень легко и естественно может стать писателем-ударником, посадили за стол, приговаривая совсем как грибоедовский Репетилов: "Писать, писать, писать". Что написали обманутые лестью люди? Вот один из примеров: "Работница Пыжова//Стажа трудового//По нашему отделу//Имеет двадцать лет.//Она у нас в отделе//Всегда стоит у дела//Прогулов самовольных//У ней в помине нет".
Нелепица последних рапповских лозунгов показывала, что организация переживает агонию. В 1932 году было принято Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций", которым ликвидировался РАПП, а заодно вместе с ним - все литературные группировки, как если бы творческий и идейный тупик одной организации свидетельствовал бы о творческой и идеологической несостоятельности прочих.
«ПЕРЕВАЛ»
Оппозицию рапповцам сумели составить перевальцы. Организационно Всесоюзное объединение рабоче-крестьянских писателей “Перевал” оформилось в 1924 году. Однако его существование оказалось бы невозможным, если бы еще в самом начале 20-х годов по инициативе А.К.Воронскогоне был бы создан первый советский "толстый" журнал - "Красная новь". В феврале 1921 года руководитель Главполитпросвета Н.К.Крупскаяи критик, журналист, литератор А.К.Воронскийобратились в Политбюро ЦК РКП(б) с предложением об издании литературно-художественного и общественно-публицистического журнала. Тогда же состоялось совещание у В.И.Ленина, на котором присутствовали Н.К.Крупская, М.Горькийи А.К.Воронский. Там было решено выпускать журнал, при этом литературным отделом должен был заведовать Горький, а ответственным редактором назначался Воронский. Горькийв связи с последовавшим вскоре отъездом за границу не смог руководить издалека литературным отделом журнала, поэтому вся редакторская и организационная работа легла на плечи Воронского. Уже летом 1921 года вышел первый номер журнала, вокруг которого в недалеком будущем суждено было сложиться «Перевалу», группировке, наиболее последовательно отстаивающей гуманистический пафос искусства.
Воронскомуза короткое время удалось создать очень интересный журнал. «“Красная новь” оказалась центром, вокруг которого собрались первые кадры советской литературы, - писал, обозревая в конце 20-х годов литературу первого советского десятилетия В.Полонский, критик и журналист, главный редактор журналов «Печать и революция» и «Новый мир». – Сквозь журнал в советскую литературу прошли почти все крупные имена. Посмотреть книжки “Красной нови” с первой до последней – это значит проследить первые этапы советской литературы». В самом деле, на страницах своего журнала Воронскийпредоставил место и новым писателям (Вс.Иванов, К.Федин, Л.Сейфуллина, И.Бабель, Б.Пильняк, А.Малышкин, Л.Леонов, М.Зощенко, Н.Тихонов), и тем, чьи имена были известны и до революции (М.Горький, А.Толстой, С.Есенин, И.Эренбург, В.Вересаев, В.Лидин, М.Пришвин, А.Белый). Сам он, выступая как критик, создал литературные портреты А.Белого, В.Вересаева, М.Горького, В.Маяковского, С.Есенина, Вс.Иванова, А.Толстого, Б.Пильняка, портреты литературных групп: «Кузницы», «Октября», «Перевала». «Красная новь», по словам В.Полонского, стала новым растущим домом современной литературы, а сам Воронскийвиделся как Иван Калита русской словесности, собиравший ее по крупицам в тот момент, когда она в этом действительно нуждалась. Положение собирателя, констатировал Полонский, было, конечно, не легким: “Красная новь” «сделалась органом по преимуществу попутнической литературы, за отсутствием другой. Задача собирания развеянных писательских сил, сохранение старых мастеров, которые сумеют перейти на советскую платформу, привлечение новых из рядов литературной молодежи – такова была задача, стоявшая перед редакцией журнала» . В самом деле, установка редакции не столько на политические лозунги, сколько на художественную квалификацию, и привела к созданию вокруг журнала среды, из которой возник «Перевал».
Конечно же, Воронскийбыл коммунистическим критиком, и представить появление в его журнале произведений В.Набокова, В.Ходасевича, Д.Мережковскогоили И.Бунинаочень трудно. Не принимал он и представителей так называемой «внутренней эмиграции», и в этом смысле показательны его литературные отношения с Е.Замятиным. Воронскийопубликовал статью о нем, нелицеприятную и несправедливую, где позволил себе подвергнуть резкой критике его неопубликованный, т.е. читателю неизвестный роман «Мы» (который будет напечатан в СССР спустя более шестидесяти лет, в 1987 году). Иными словами, он громил оппонента, не имевшего возможность возразить. Замятинотвечал взаимностью, называя “Красную новь” «официозным журналом», а Воронского- «коммунистическим критиком» , таким же, в сущности, как и Авербах. С его точки зрения, когда он всматривался в литературную ситуацию метрополии из эмиграции, из Парижа, принципиальной разницы между ними не наблюдалось.
И все же, думается, не вполне справедливо становиться на парижскую точку зрения. Взгляд изнутри литературной ситуации обнаруживал, что дистанция между «Красной новью» и «На посту» была огромной, эти два издания обозначали полюса художественного и политического спектра 20-х годов. И Воронский, яркий критик, тонкий редактор и талантливый издатель, сумел как никто другой выявить центральные пункты литературных разногласий между этими полюсами.
Они определялись, в первую очередь, традиционным для русской культуры вопросом об отношении искусства к действительности, который был поставлен еще Н.Г.Чернышевскимв его знаменитой диссертации. Каковы задачи искусства в новом обществе? Какова роль художника? Кто он - пророк в своем отечестве или же подмастерье, кустарь-одиночка, художественно обрабатывающий не им созданные идеологические построения, на чем настаивали лефовцы? Является ли искусство важнейшей сферой общественного сознания наравне с философией, или же его функции сводимы к элементарной дидактике, передаче передового опыта, дизайну, украшению быта, иначе говоря, если вновь воспользоваться метафорой А.Блока, действительно ли он должен всего лишь сметать сор с улиц? Для чего книгу берут в руки - для развлечения или же для того, чтобы лучше понять бытие и свое место в нем?
Для Воронскогоответ был однозначен - он сформулировал его так точно, что его слова стали лозунгом одного из полюсов общественного сознания 20-х годов: "Искусство как познание жизни и современность" - озаглавил он одну из своих статей. "Искусство видеть мир" - подчеркнул в названии другой. В основе его концепции лежала познавательная функция искусства.
«Что такое искусство? - спрашивал Воронскийи тут же отвечал: - Прежде всего искусство есть познание жизни… Искусство, как и наука, познает жизнь. У искусства, как и у науки, один и тот же предмет: жизнь, действительность. Но наука анализирует, искусство синтезирует; наука отвлечена, искусство конкретно; наука обращена к уму человека, искусство - к чувственной природе его. Наука познает жизнь с помощью понятий, искусство - с помощью образов, в форме живого чувственного созерцания» .
Теорию познавательной функции искусства Воронскийпротивопоставляет концепциям, имеющим весьма авторитетных защитников. Пролеткультовцы Арватови Гастев, критики ЛЕФа Чужаки Брик, конструктивист К.Зелинский, отстаивая различные варианты теории "искусства - жизнестроения" или "производственного искусства", при всех нюансах своей концепции видели в нем служанку производства и быта. Ее нанимали хозяева, в данном случае - руководители крупного индустриального производства, которому преклонялись как божеству лефовцы, конструктивисты, пролеткультовцы, и в задачу ее входило обеспечение максимального комфорта для производителя материальных ценностей - для отдельной человекоединицы, стоящей у станка, ибо в таком эстетическом масштабе, какой предложен левым фронтом, индивидуальность, личность этого человека с его запросами и противоречиями, радостями и горестями просто неразличима. Лефовцы приходят к унификации личности, к «апологии дисциплинированной машины», как интерпретировали их концепцию личности перевальцы, видя в ней "отчетливо функционирующего человека", производителя материальных ценностей - и в задачу искусства входит как можно быстрее и лучше эту унификацию провести.
«Для нас социализм, - возражал им Лежнев, – не огромный работный дом, как это представляется маньякам производственничества и поборникам фактографии, не унылая казарма из «Клопа», где одинаково одетые люди умирают от скуки и однообразия. Для нас это – великая эпоха освобождения человека от всяческих связывающих его пут, когда все заложенные в нем способности раскроются до конца» .
"Красная новь" Воронскогостала цитаделью, в которой многие писатели (признанные сейчас классиками) нашли защиту от огня и меча "неистовых ревнителей" пролетарской чистоты. "Во время литературного пожара Воронскийвыносил мне подобных на своих плечах из огня", - скажет позже М.Пришвин, "писатель с реакционным нутром", как рекомендовали его рапповцы. Слова М.Пришвинане будут преувеличением: до определенного момента стены этой цитадели были недосягаемы для противника.
Это стало одним из обстоятельств, приведшем в 1924 году к образованию вокруг "Красной нови" группы "Перевал". Эта группа стала школой А.К.Воронского- его имя прочитывалось на знаменах "Перевала" даже после 1927 года, когда Воронскийбыл устранен с “литературного поля битвы” (Горький). Он предложил идеи, подхваченные и развитые его соратниками, критиками "Перевала": Дмитрием Александровичем Горбовым, Абрамом Захаровичем Лежневым; он предоставил страницы журнала писателям - перевальцам. Идейно и организационно "Перевал" без Воронскогоне состоялся бы, хотя сам он организационно не был членом этой группы.
Эстетические взгляды критиков «Перевала» оформились во второй половине 20-х годов, когда и вышли их основные книги. Это «Искусство и жизнь»(1924), «Литературные записи»(1926), «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна»(1927), «Искусство видеть мир» (1928), «Литературные портреты»(1928-29) А.К.Воронского; «У нас и за рубежом», «Путь М.Горького» (обе – 1928), «Поиски Галатеи»(1929) Д.А.Горбова; «Современники»(1927), «Литературные будни»(1929), «Разговор в сердцах»(1930) А.З.Лежнева.
Идейно-эстетическая концепция Перевала была связана с интересом к будущему. Отсюда и такое своеобразное название группы: за перевалом времени они стремились различить "элементы завтрашней морали", "новый гуманизм", "новый, подлинный коммунизм", "нравственность завтрашнего дня". Перевальцы пытались заглянуть в будущее, бросить взгляд на "тот новый подлинный гуманизм, который выдвигается нашей эпохой перестройки общества, идущего к уничтожению классов, и без которого немыслима поэзия наших дней" . Эта опора на будущее объективно вела к утверждению общечеловеческого начала в искусстве, которое противопоставлялось сиюминутности. "Художник должен уметь сочетать временное с вечным, - подчеркивал Воронский. - Только тогда его вещи и становятся достоянием будущего".
Ориентация на будущее, с точки зрения которого рассматривается настоящее, обусловила практически все лозунги перевальцев, предложенные ими искусству 20-х годов. Символ веры их выражался тремя важнейшими тезисами: искренность, эстетическая культура, гуманизм .
Искренность - этот лозунг направлен против теории социального заказа, обоснованного теоретиками ЛЕФа. Художник - не кустарь-одиночка, он не может взять социальный заказ так, как берет портной заказ на пальто. Он в ответе за идеологические построения, которые содержатся в его произведениях, и не в праве выполнять чуждый ему социальный заказ, наступать на горло собственной песне: неискренность дорого обойдется не только ему, но и обществу.
Эстетическая культура . "Искусство, - писал Воронский, - всегда стремилось и стремится возвратить, восстановить, открыть мир прекрасный сам по себе, дать его в наиболее очищенных и непосредственных ощущениях. Эту потребность художник ощущает, может быть, острее других людей потому, что в отличие от них он привыкает видеть природу, людей, как если бы они были нарисованы на картине; он имеет дело преимущественно не с миром как таковым, а с образами, с представлениями мира: его главная работа происходит преимущественно над этим материалом" . "Образы", "представления мира", "мир, прекрасный сам по себе" – в этом «неистовым ревнителям» пролетарской классовости виделся идеализм. С теми же упреками, скажем, обратился Авербахк Горбову, когда услышал от него о "сокровенном мире богини Галатеи", о том, что "задача художника не в том, чтобы показывать действительность, а в том, чтобы строить на материале реальной действительности, исходя из нее, мир действительности эстетической, идеальной".
Но важнее чем панический страх перед идеализмом был страх перед той концепцией личности, которую утверждали участники «Перевала» - в данном случае, перед личностью художника. Потребность увидеть мир, прекрасный сам по себе, художник воспринимает острее других людей, утверждал, в частности, Воронский, и с этим не могли смириться неистовые ревнители. Сама идея исключительности художника, его умение видеть дальше и больше других, его пророческая миссия, с пушкинских времен утверждаемая русской литературой, приводила их в ужас. Это о них как бы с горькой улыбкой говорил Воронский: «Самые рассудочные люди часто в искусстве - самые тупые и невосприимчивые» .
Что же дано художнику? Эстетическое восприятие мира, скажем мы сейчас, суммируя комплекс идей Воронского. Художник наделен "способностью находить прекрасное само по себе там, где оно скрыто", ему доступно "бескорыстное наслаждение миром", он ощущает "неиспорченые, девственно яркие образы". И у подлинного художника не может быть иной цели кроме той, чтобы научить других людей "искусству видеть мир". Здесь и завязывался узел конфликта Воронскогосо многими из его современников.
Критиков РАППа и ЛЕФа вполне устраивал тот человек, о котором с горечью писал Воронский: «В нас, как в зеркале с неровной поверхностью, действительность отражается в искаженных формах. Мы более похожи на больных, чем на нормальных людей. Прошлое, господствующая капиталистическая среда, пережитки миллионы людей делают такими больными и ненормальными» . Мало того, сознательно или бессознательно лефовские творцы "отчетливо функционирующего человека" или "живого человека" РАПП стремились объективно к консервации такого "искаженного" человека: ему легче внушать ультраклассовые идеи.
Где же видел выход Воронский? Как предлагал он уйти от "искаженных форм" действительности, от "искривленного восприятия мира"? В этом, по его глубокому убеждению, и состоит величайшая миссия искусства. «Но, окруженный этим искаженным в его представлениях миром, человек все же хранит в памяти, быть может, иногда лишь как далекое, смутное сновидение, неиспорченные, подлинные образы мира. Они прорываются в человеке вопреки всяким препятствиям... Неподдельное, подлинное искусство иногда сознательно, а еще чаще бессознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом - главный смысл искусства и его назначение» .
До 1927 года цитадель "Красной нови" была неприступна. В 1927 году она пала: Воронскийбыл устранен с литературного поля битвы, как говорил Горький. Его вынужденный уход с поста главного редактора «Красной нови» и исключение из партии обусловлены политическими событиями: в 1927 году была разгромлена троцкистская оппозиция, участником которой был Воронский. Его уход ощущался современниками как большая потеря. Тогда же между М.Горьким, живущим в эмиграции, в итальянском средиземноморье, и писателем Ф.Гладковым, очевидцем и непосредственным участником литературного процесса, состоялся следующий эпистолярный диалог.
Горький . Мне жаль, что Воронскийуходит из «Красной нови», очень жаль. И странно, чем и кому он не понравился?
Гладков . Кому не понравился Воронский? ВАПП, конечно, в первую очередь. Эти интриганы и чиновники новой формации добиваются полного уничтожения Воронскогокак оплота «мещанской» литературы, борются за верховное руководство всей советской литературой, чтобы стать единственным ее гегемоном.
Горький (Воронскому). Если это правда, - это очень грустно и более, чем грустно. Это свидетельствует, что у нас все еще не научились ценить работников по их заслугам и работу по достоинству ее. Вами создан самый лучший журнал, какой возможно было создать в тяжелых условиях, хорошо известных мне.
Воронский (Горькому). За последнее время положение мое обострилось оттого, что я решительно выступал против ряда глупостей, которые могли совершиться, но не совершились, вернее, совершились в небольшой пока дозе .
Три года спустя Горькийс грустью констатировал: «В литературе царят споры и раздоры кружков, а Воронский, Полонский, Переверзев, Беспалов, перевальцы устранены с поля битвы. Меньше всех заслужил это самый талантливый Воронский, если он вообще заслужил остракизм».
Однако отстранение Воронскогов 1927 году не привело к распаду группировки, обладающей серьезной и глубокой эстетической программой. На протяжении еще трех лет они играли, возможно, самую заметную роль в литературе и критике.
Утверждая свои идеи, участники «Перевала» оперировали широкими образами-символами, имеющими глубинный философский смысл, касающийся самой природы искусства. Среди них – образ сокровенной богини Галатеи. Так называлась и книга Д.Горбова, ставшая эстетической декларацией «Перевала»: «Поиски Галатеи» (Москва, «Федерация», 1929). Выходу этой книги предшествовали достаточно драматические события.
Доклад «Поиски Галатеи» был прочитан в октябре 1928 года на объединенном заседании активов «Перевала» и РАПП. Заседание состоялось по предложению Л.Авербаха, который гарантировал Д.Горбову«товарищескую форму полемики», как ее понимали рапповцы. Однако и сами перевальцы не были готовы к товарищеской форме полемики: жажда спора, отталкивания от чужого мнения была характерна для них, может быть, даже в большей степени, чем для представителей других направлений. Так, Д.А.Горбов, настроенный весьма миролюбиво, начинает свой доклад, обращаясь к рапповцам, предложившим встречу и вроде бы ищущим понимания и диалога: «Я не хочу подозревать теперешних руководителей ВАППа в лицемерии. Несмотря на недопустимость полемических выпадов, направленных ими на нас – перевальцев… я готов видеть в этой группе товарищей, заблуждающихся, но одушевленных искренним стремлением содействовать успешному развитию пролетарской литературы. Не обвиняя их в лицемерии, я, однако, при всем желании, не могу не видеть в них пустосвятов» . Определив таким образом характер своих отношений с аудиторией, Горбовперешел к самому актуальному для себя и для «Перевала»: размышлению о сущности искусства.
«Какова же подлинная природа искусства, - вопрошает Горбову своих слушателей из РАПП, - не поняв которой нельзя работать в искусстве?» - и приводит далее обширную цитату из стихотворения Баратынского«Скульптор»:
Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел…
В работе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, желанной
Покров последний не падет.
Покуда, страсть уразумея,
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.
«Я принимаю мужественное решение, - продолжает Горбов. - Пренебрегая капризным пером Авербахаи фривольным карандашом Кукрыниксов, - во всеуслышанье объявляю приведенное стихотворение Баратынскогообщеобязательной для всякого подлинного художника формулой творчества» .
Мир Галатеи - это мир искусства, мир, существующий наравне с миром реальным, вещным, ощутимым. Предметы и факты реальной действительности, втянутые художником в мир Галатеи, говорил Горбов, получают иное, нереальное значение: они предстают там знаком некоей идеальной, эстетической системы, созданной замыслом художника. Прорыв в мир сокровенной богини Галатеи, мир идеального и прекрасного, и есть общественная задача искусства. «Именно идеальная, эстетическая действительность, создаваемая художником, именно этот мир “сокровенной богини” Галатеи и есть та особая форма общественного бытия, раскрытием которой целиком и без остатка поглощен художник. Предметы и факты реальной действительности, “изображенные” или “показанные” на страницах искусства, не имеют самостоятельного значения. Ведь их нельзя понимать буквально. Втянутые художником в мир Галатеи, они получают иное, нереальное значение: они предстают там знаками некой идеальной, эстетической системы, созданной замыслом художника» .
Желая найти хоть какие-то точки соприкосновения со своими оппонентами, Горбовприводил один из эпизодов романа «Разгром» А.Фадеева, заметной фигуры в руководстве РАПП, где Левинсон идет проверять ночные дозоры и видит в отсвете костра улыбку на лице одного из партизан. «Я люблю этот отрывок, - говорил собравшимся Горбов, не за то, что в нем показано, а за то, чего в нем не показано. Я люблю его за то, что рядом с Левинсоном, которого мы видим, по этой картине легкой поступью невидимкой прошла “сокровенная богиня” Галатея». С его точки зрения, «Разгром» - единственный пока роман, где совершен «выход художника, принадлежащего к ВАПП, из мира штампа и голого показа действительности в мир эстетического ее претворения, в идеальный мир Галатеи» .
Трудно сказать, на что рассчитывал Горбов, апеллируя к своим слушателям из РАПП. Они говорили на разных языках, использовали принципиально разные категориальные аппараты: политические лозунги, заимствованные из партийного лексикона и приложенные к литературе – у РАПП; широкие образы-символы, обладающие неисчерпаемым смысловым объемом, имеющие глубинные мифологические и культурно-исторические истоки – у «Перевала». «Диалектико-материалистический метод», «союзник или враг», «призыв ударников в литературу», «срывание всех и всяческих масок» - с одной стороны; «сокровенная богиня Галатея», «искренность», «эстетическая культура», «мастерство», моцартианство и сальеризм – с другой. Диалог был невозможен и в силу принципиально разного уровня образованности оппонентов, да, пожалуй, стороны и не стремились к нему, используя его для достижения целей, своих у каждой стороны: политическое шельмование и устранение противника с «литературного поля боя», как говорил Горький, - у РАПП; высказывание и еще более точное формулирование своих идей в отталкивании от противного мнения – у перевальцев. И нужно сказать, что обе стороны своих целей достигали в этом странном диалоге на разных языках.
«Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт»,- приводил Горбовцитату из Федора Сологуба, само имя которого было предано анафеме в рапповских кругах как декадента, и затем задавал вопрос, выводивший из себя оппонентов: «Спрашивается, можно ли взять эту формулу Сологубаи положить ее в основу художественного воспитания нашей пролетарской литературы?». Этот вопрос носил принципиальный характер, ибо давал возможность расширить рапповский лозунг «учебы у классиков» и ввести в литературный и культурный оборот современности опыт символизма и шире - огромный пласт литературы Серебряного века, чтобы «учиться» не только у Л.Толстого, но и у Белого, Соловьева, Сологуба. «Да, - продолжал Горбов, - эта сологубовская формула подлежит усвоению каждым молодым писателем, в том числе и пролетарским. Тов. Либединский! - обращался Горбовк одному из признанных рапповских писателей. - Учите пролетарских писателей претворять простой и грубый материал жизни в сладостную легенду! В легендах больше жизни, чем это кажется на первый взгляд! В иной сладостной легенде больше горькой правды жизни, чем в голом показе жизненных фактов» .
Такой призыв, обращенный к Либединскому, автору знаменитой в 20-е годы повести "Неделя", автору "Комиссаров", живописующему суровые будни гражданской войны и подвиги коммунистов - никак не сладкую легенду, понравиться не мог. РАПП утверждал иные принципы подхода к искусству. Идеи "перевальцев" были восприняты как “отрыв от действительности” “идеализм” и “контрабанда идеалистической реакции”. Их противники не услышали главного: стремления расширить литературный кругозор современности, суженный вульгарно-социологической догматикой, и ввести гармонию в реальную жизнь, дисгармоничную и разорванную.
Утверждая свои представления об общественной функции искусства как о построении идеальной эстетической действительности, как о мире Галатеи, как об особой форме общественного бытия, «перевальцы» с неизбежностью приходили к лозунгу искренности, направленному против теории социального заказа, введенной О.Брикоми подхваченной потом РАПП. Прямое отрицание социального заказа в контексте времени было просто невозможным, поэтому Горбоввыдвигает свою трактовку социального заказа, которая, по сути, является отказом от него: «Найти в самом себе социальный заказ своего класса, предстоящий не как нечто извне данное, ВАППовской купчихой натверженное, а как живой факт собственного внутреннего мира художника. От этого подлинного социального заказа художник не должен отрываться ни на минуту» .
Можно представить, что сделали рапповцы с Горбовым, выслушав его суждения о сокровенной богине Галатее, Сологубе и романе «Разгром» Фадеева! Он сам рассказывает об этом в следующей статье своей книги, «Галатея или купчиха». Как и можно было бы догадаться, обещание «товарищеской формы полемики» не было выполнено Авербахом. Он «раздраконил» доклад не только на заседании, но и печатно – в ближайшем выпуске «Вечерней Москвы», имеющей многотысячную аудиторию. Ответная статья Горбоваувидела свет лишь в книге, выпущенной тиражом три тысячи экземпляров год спустя после описанных событий. «На основании разбора моей неопубликованной, т.е. для читателя несуществующей работы, - жаловался Горбов, - Авербахвесьма “товарищески” говорил на страницах «Вечерней Москвы» о необходимости снять с меня «марксистский мундир», который-де является для меня либо «защитным цветом», либо «преходящим увлечением». Читательский слой, обслуживаемый «Вечерней Москвой», очевидно, представляется Авербахунаиболее подходящей инстанцией для решения подобных вопросов» .
Драма «Перевала» состояла в том, что подавляющее большинство участников литературного процесса говорило на другом языке и не могло понять тех широких образов-символов, которыми оперировали Горбовили Лежнев. Среди таких эмоционально и содержательно насыщенных образов в конце 20-х годов появились образы Моцарта и Сальери. Они оказались в центре литературно-критической полемики в связи с выходом в свет повести «Мастерство», принадлежащего перу яркого писателя, несправедливо забытого теперь, участника «Перевала» Петра Слетова. Ее главные герои, Мартино и Луиджи, воплощают разные принципы отношения к искусству, к художнику, к творчеству: рациональное, связанное со стремлением поверить алгеброй гармонию, - с одной стороны. Вдохновенное, эмоциональное, иррациональное, связанное с бескорыстным наслаждением красотой вещи и гармонией мира – с другой. Очевидно, что именно эта проблематика объективно оказывалась тем центром, вокруг которого шла борьба между РАПП и «Перевалом». Так или иначе, вся проблематика споров 20-х годов (о методе литературы, о классовости искусства, о концепции личности) все дискуссии того времени (о живом человеке, о психологизме, о фрейдизме, соотнесенности рациональной и иррациональной составляющей в характере) сводились к спору, который вели между собой пушкинские Моцарт и Сальери, как бы ставшие полноправными участниками идейных споров первого советского десятилетия. В 1929 году к этому напряженному диалогу подключились и герои повести П.Слетова«Мастерство».
Творческая история этого произведения весьма показательна. Она восходит к 1926 году, когда в Государственном институте музыкальной науки состоялась выставка смычковых инструментов, где были представлены редкие и ценнейшие экземпляры, среди которых были скрипки Страдивари и Амати. Выставка стала заметным событием культурной жизни Москвы и напомнила о том, что история скрипичной музыки тесно связана с историей революционного движения Европы. Суть в том, что Французская революция открыла для скрипки, звучавшей прежде на улице, на рынке, у городских ворот, в кварталах бедноты, двери дворцов. И скрипка под дворцовыми сводами зазвучала совершенно по-новому: сложилось невиданное ранее сочетание акустических условий и демократической аудитории, вошедшей под дворцовые своды. Обнаружилось, что там, где раньше слышались клавесины или органы, скрипка, народный инструмент, звучит отнюдь не хуже. Скрипка, таким образом, стала музыкальным инструментом революционной Европы, ассоциировалась с музыкой демократической аудитории, с романтическими идеалами Великой французской революции. Искусство скрипичных дел мастера привлекает всеобщее внимание, в сознании толпы он из ремесленника превращается в мастера.
Слетовизбрал своим героем скрипичного мастера, Луиджи Руджери. Это вымышленный персонаж, хотя в его образе угадываются некоторые черты Страдивари. В повести точно воспроизведен не только городской быт ХVIII века, но и топография Кремоны, города, где жил Страдивари (его образ характеризуется несколькими лейтмотивами), облик городских ворот Оньи Санти, маленький домик мастера у Порта По. Конфликт повести обусловлен противостоянием двух героев: скрипичного мастера Луиджи Руджери и его ученика, Мартино Форести. Попадая на выучку к Луиджи, вдохновенному творцу, Мартино хочет понять и освоить секреты его мастерства. Здесь-то и сталкиваются два разных понимания того, что такое искусство и творец, мастер.
Мартино воплощает рациональный, головной подход к искусству, в то время как Луиджи пытается привить своему ученику умение бескорыстного наслаждения красотой мира, как сказал бы Воронский: он советует ему любоваться церковными фресками, витражами соборов, резьбой по дереву итальянских мастеров, смотреть на гармонию обыденности, даже если это обыденность рынка, городского быта Кремоны. Это умение, полагает мастер, даст интуицию, творческий полет, которому не научат и десять учителей, ибо он иррационален по своей природе. Не стать мастером, наставляет Луиджи своего подмастерья, но остаться навсегда ремесленником, если не научиться видеть гармонию обыденного бытия, воплотив ее затем в природном материале. Мартино не понимает учителя, полагая, что он просто не хочет передать свое мастерство. «Лучше бы он сказал мне точно толщины дек и высоту сводов, я постарался бы вырезать как можно более тщательно» .
Луиджи видит тайну мастерства совсем в другом: толщина дек в каждом случае будет разной, как и высота свода: их подскажет материал, живое дерево. «У дерева, даже мертвого, - размышляет мастер, - есть своя собственная жизнь. Умей не искалечить ее, а освободить и в то же время дать новую жизнь инструменту, вдохнув в нее свою душу»(59). Задача творца – увидеть жизнь, гармонию материала, обнажить ее и дать возможность проявиться: «Если ты взял ель с волнистой ниткой, посмотри, какой чудесный рисунок получится у тебя… Ты снимешь рубанком один только волос, и все переплетется и заиграет по-новому. Распили торец – прерванные нити брызнут, как лучи от хвоста кометы, и соединятся в беспокойный пламенный узор. Приложи ухо, попробуй согнуть, взвесь на руке – в этом радость познания»(58).
Около трех лет проводит Мартино в маленьком домике Луиджи, не продвигаясь в том видении, которое пытается открыть ему учитель. В безумном желании выведать тайны мастерства, Мартино ослепляет своего учителя. И здесь начинается мистический сюжет повести: жизнь, сокрытая в мертвом дереве, о которой твердил учитель своему тупому ученику, обрушивается на палача, мстит за жертву. Мартино слышит стоны мертвого, как ему кажется, дерева, которое из-за его преступления не воплотилось в скрипку.
«Мы сидели в полной тишине, шум затихшей Кремоны не доносился к нам. И вот я услышал действительно легкие звуки, как будто легкий звон выстукиваемой деки. Волосы зашевелились у меня на голове, я весь сжался и окаменел от ужаса. Луиджи временами шептал:
Ты слышишь? Это альтовая нижняя дека, я почти ее сделал, она ближе всех к бытию и громче звучит. Но есть и другие, слушай… те едва зачаты…
И я услышал другие: они были тише вздохов, но тем сильнее заставили меня сжаться. Покрытый испариной, слушал я хор этих тихих стонов»(112).
Очевидно, что Слетов, создавая образ Луиджи, в конце 20-х годов, художественно воплощает ту концепцию творческой личности, о которой писал в начале десятилетия А.Блокв своей знаменитой Пушкинской речи: «Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир» . Именно в поиске гармонии, в освобождении звука из изначальной стихии, в привнесении ее в жизнь видит Слетовсмысл искусства. Его оппонентам из РАПП ближе взгляд Мартино.
Потрясенный открывшимся, Мартино видит в ночных голосах не жизнь, даруемую творцом, превращающим дерево в скрипку, а дьявольское наваждение, и убивает учителя, уходит из Кремоны и после долгих скитаний становится иезуитом, убийцей и палачом, соединив свою жизнь с «братьями в святом деле защиты родины и матери-церкви от насильников и святотатцев… Своими руками вешал я предателей церкви, во имя божье разя вольнодумцев, и ни разу стоны их не тронули, а мольбы о пощаде не разжалобили меня»(123). Полагая, что Луиджи, его первая жертва, был вероотступником, надевшим на себя личину мастера, Мартино недоумевает: «Но отчего все же мысль моя всякий раз смущается при воспоминании о Луиджи?»(123). «В туманных снах хороводы безмолвных скрипок пляшут передо мной гнусный шабаш, их эфы свирепо подмигивают мне, грифы изгибаются, как змеи, и тянутся ко мне длинными, как жала, языками оборванных струн. В смертельной тоске размахиваю я кувалдой, и эфы кровоточат, как глазницы Луиджи…
Боже мой, неужели же, избрав меня своим орудием, ты не защитишь от адских сил!»(124).
Разрешение конфликта в повести Слетовапредугадывало развязку драматического столкновения РАПП и «Перевала». Рапповцы, подходившие к искусству и литературе с рационально-прагматической точки зрения, оказались сильнее. Окончательная победа была одержана ими в апреле 1930 года, когда группа «Перевал» была подвергнута уничтожающей критике на дискуссии в Комакадемии, проходившей под характерным лозунгом: "Против буржуазного либерализма в художественной литературе". Означенную тенденцию воплощали собой, разумеется, участники «Перевала». В ходе дискуссии все лозунги «перевальцев» были отвергнуты.
Лозунг гуманизма , который трактовался его защитниками как идея самоценности человеческой личности, трактовался М.Гельфандом, сотрудником Комакадемии, который выступал на дискуссии с основным докладом, так: «реакционный мелкий буржуа, развертывающий знамя буржуазного либерализма, органически не может обойтись без лозунга "гуманизма", ибо это один из лозунгов самозащиты и сопротивления "угнетенных", "обиженных", выбиваемых революцией из седла классов и групп» .
Другой пример. Речь идет о формуле "моцартианства ", акту
Практицизм и утилитаризм искусства получил мощное философское обоснование в теориях Пролеткульта . Эта была самая масштабная и значимая для литературно-критического процесса начала 1920-х годов организация. Пролеткульт никак нельзя назвать группировкой – это именно массовая организация, имевшая разветвленную структуру низовых ячеек, насчитывавшая в своих рядах в лучшие периоды существования более 400 тысяч членов, обладавшая мощной издательской базой, имевшей политическое влияние и в СССР, и за рубежом. Во время второго конгресса III Интернационала, проходившего в Москве летом 1920 года, было создано Международное бюро Пролеткульта, куда входили представители Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии. Его председателем был избран А.В.Луначарский, а секретарем – В.Полянский. В обращении Бюро «Братьям пролетариям всех стран» так описывался размах деятельности Пролеткульта: «Пролеткульт издает 15 журналов в России; он издал до 10 миллионов экземпляров своей литературы, принадлежащей исключительно перу пролетарских писателей, и около 3 миллионов экземпляров музыкальных произведений разных наименований, являющихся продуктом творчества пролетарских композиторов» . Действительно, в распоряжении Пролеткульта было более полутора десятка собственных журналов, издававшихся в разных городах. Наиболее заметные среди них - московские «Горн» и «Твори» и петроградский «Грядущее». Важнейшие теоретические вопросы новой литературы и нового искусства ставились на страницах журнала «Пролетарская культура», именно здесь печатались наиболее заметные теоретики организации: А.Богданов, П.Лебедев-Полянский, В.Плетнев, П.Бессалько, П.Керженцев. С деятельностью Пролеткульта связано творчество поэтов А.Гастева, М.Герасимова, И.Садофьеваи многих других. Именно в поэзии участники движения проявили себя наиболее полно.
Судьба Пролеткульта, так же, как и его идеологические и теоретические установки, во многом определены датой его рождения. Организация была создана в 1917 году меж двух революций – Февральской и Октябрьской. Рожденный в этот исторический промежуток, за неделю до октябрьского переворота, Пролеткульт выдвинул совершенно естественный в тех исторических условиях лозунг: независимость от государства. Этот лозунг остался на знаменах Пролеткульта и после Октябрьской революции: декларация независимости от Временного правительства Керенского сменилась декларацией независимости от правительства Ленина. Именно это стало причиной последующих трений между Пролеткультом и партией, которая не могла мириться с существованием независимой от государства культурно-просветительской организации. Становившаяся все более и более резкой полемика завершилась разгромом. Письмо ЦК ВКП(б) «О Пролеткультах» (21 декабря 1920 года) не только раскритиковало теоретические положения организации, но и покончила с идеей независимости: Пролеткульт был влит в Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения т.е. министерство, по современной терминологии) на правах отдела, где и просуществовал неслышно и незаметно до 1932 года, когда группировки были ликвидированы Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
С самого возникновения Пролеткульт ставил перед собой две цели, которые подчас противоречили друг другу. С одной стороны, это была попытка (и вполне плодотворная) привлечения к культуре широких масс, распространение элементарной грамотности, приобщение своих членов через многочисленные студии к азам художественной литературы и искусства. Эта была хорошая цель, весьма благородная и гуманная, отвечавшая потребности людей, отторгнутых ранее от культуры судьбой и социальными условиями, приобщиться к образованию, научиться читать и воспринимать прочитанное, ощутить себя в великом культурно-историческом контексте. С другой стороны, руководители Пролеткульта вовсе не в этом видели конечную цель своей деятельности. Напротив, они ставили задачу создания принципиально новой, ни на что не похожей пролетарской культуры, которая будет твориться пролетариатом для пролетариата же. Она будет новой и по форме, и по содержанию. Эта цель вытекала из самой сущности философии, созданной основоположником пролеткульта А.А.Богдановым, который полагал, что культура предшествующих классов непригодна для пролетариата, т.к. содержит чуждый ему классовый опыт. Мало того, она нуждается в критическом переосмыслении, ибо иначе может быть опасна для классового сознания пролетариата: «…при невыработанности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения, не пролетарий овладевает культурой прошлого, как своим наследством, а она овладевает им, как человеческим материалом для своих задач» . Создание своей, пролетарской, культуры, основанной на пафосе коллективизма, и мыслилось как основная цель и смысл существования организации.
Такая позиция находила отклик в общественном сознании революционной эпохи. Суть в том, что многие современники были склонны мыслить революцию и последовавшие исторические катаклизмы не как социальные преобразования, направленные на улучшение жизни победившего пролетариата и вместе с ним подавляющего большинства народа (такова была идеология оправдания революционного насилия и красного террора). Революция мыслилась как смена эсхатологического масштаба, как мировая метаморфоза, разворачивающаяся не только на земле, но и в космосе. Переустройству подлежит все – даже физические контуры мира. В таких представлениях пролетариат наделялся некой новой мистической ролью – мессии, преобразователя мира в космическом масштабе. Социальная революция мыслилась лишь как первая ступень, открывающая путь пролетариату к коренному пересозданию насущного бытия, включая его физические константы. Именно поэтому столь значительное место в поэзии и изобразительном искусстве Пролеткульта занимают космические мистерии и утопии, связанные с мыслью о преображении планет Солнечной системы и освоении галактических пространств. Представления о пролетариате как о новом мессии характеризовали иллюзорно-утопическое сознание творцов революции в начале 20-х годов.
Такое мироощущение нашло воплощение в философии А.Богданова, одного из основателей и главного теоретика Пролеткульта. Александр Александрович Богданов– человек удивительной и богатой судьбы. Он врач, философ, экономист. Революционный стаж Богдановаоткрывает 1894 год, когда он, студент 2 курса Московского университета, арестовывается и высылается в Тулу за участие в работе студенческого землячества. В этом же году он вступает в РСДРП. Первые годы ХХ века знаменуются для Богдановазнакомством с А.В.Луначарскими В.И.Лениным. В Женеве, в эмиграции, он с 1904 года становится соратником последнего в борьбе с меньшевиками – «новоискровцами», участвует в подготовке 3 съезда РСДРП, избирается в большевистский ЦК. Уже позже отношения с Ленинымобострятся, а в 1909 году передут в открытый философский и политический спор. Именно тогда Ленинв своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм» (которая стала ответом на книгу Богданова«Эмпириомонизм: Статьи по философии. 1904-1906») обрушился на Богдановас резкой критикой и назвал его философию реакционной, увидев в ней субъективный идеализм. Богдановбыл выведен из состава ЦК и исключен из большевистской фракции РСДРП. В составленном им юбилейном сборнике «Десятилетие отлучения от марксизма (1904-1914)» он вспоминал 1909 год как важный этап своего «отлучения». Октябрьский переворот Богдановне принял, но остался до конца дней верен своему главному делу – утверждению пролетарской культуры. В 1920 году Богдановаждет новый удар: по инициативе Ленинаразворачивается острая критика «богдановщины», а в 1923 году, уже после разгрома Пролеткульта, он подвергается аресту, который закрыл ему доступ в рабочую среду. Для Богданова, который всю жизнь посвятил рабочему классу, почти обожествляя его, это был жесточайший удар. После освобождения Богдановне вернулся к теоретической деятельности и практической работе в сфере пролетарской культуры, но сосредоточился на медицине. Он обращается к идее переливания крови, трактуя ее не только в медицинском, но и социально-утопическом аспекте (полагая взаимный обмен кровью средством создания единой коллективной целостности людей, в первую очередь, пролетариата) и в 1926 году организует «Институт борьбы за жизнеспособность» (Институт переливания крови). Мужественный и честный человек, прекрасный ученый, мечтатель и утопист, он близок к раскрытию загадки группы крови. В 1928 году, поставив на себе эксперимент, перелив чужую кровь, он погиб.
В основе деятельности Пролеткульта – так называемая «организационная теория» Богданова, которая выражена в главной его книге: «Тектология: Всеобщая организационная наука» (1913-22). Философская суть «организационной теории» состоит в следующем: мир природы независимо от человеческого сознания не существует, т.е. он не существует так, как мы воспринимаем его. В сущности своей действительность хаотична, неупорядочена, непознаваема. Однако мы видим мир находящимся в некой системе, отнюдь не как хаос, напротив, имеем возможность наблюдать его гармонию и даже совершенство. Это происходит потому, что мир приведен в порядок сознанием людей. Как происходит этот процесс?
Отвечая на этот вопрос, Богдановвводит в свою философскую систему важнейшую для нее категорию – категорию опыта. Именно наш опыт, и в первую очередь «опыт социально-трудовой деятельности», «коллективная практика людей» помогает нашему сознанию упорядочить действительность. Иными словами, мы видим мир таким, каким диктует нам наш жизненный опыт – личный, социальный, культурный и т.д.
Где же тогда истина? Ведь у каждого свой опыт, следовательно, каждый из нас видит мир по-своему, упорядочивая его иначе, чем другой. Следовательно, объективной истины не существует, и наши представления о мире весьма субъективны и не могут соответствовать действительности хаоса, в котором мы пребываем. Важнейшая философская категория истины у Богданованаполнялась релятивистским смыслом, становилась производной от опыта человека. Гносеологический принцип релятивности (относительности) познания абсолютизировался, что ставило под сомнение факт существования истины, независимой от познающего, от его опыта, взгляда на мир.
«Истина, - утверждал Богдановв книге «Эмпириомонизм», - есть живая форма опыта… Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины. Истина есть идеологическая форма – организующая форма человеческого опыта». Именно эта, совершенно релятивистская посылка, и дала возможность Ленину говорить о Богданове как о субъективном идеалисте, последователе Махав философии. «Если истина есть только идеологическая форма, - возражал он Богданову в книге «Материализм и эмпириокритицизм», - то, значит, не может быть объективной истины», и приходил к выводу, что «отрицание объективной истины Богдановыместь агностицизм и субъективизм».
Разумеется, Богдановпредвидел упрек в субъективизме и пытался отвести его, определяя критерий истины: общезначимость. Иными словами, в качестве критерия истины утверждается не частный опыт отдельного человека, а общезначимый, социально организованный, т.е. опыт коллектива, накопленный в результате социально-трудовой деятельности. Высшей формой такого опыта, приближающего нас к истине, оказывается классовый опыт, и в первую очередь – социально-исторический опыт пролетариата. Его опыт несравним с опытом любого другого класса, поэтому и истину он обретает свою, а вовсе не заимствует ту, что была несомненна для предшествующих классов и групп. Однако ссылка не на личный опыт, а на коллективный, социальный, классовый, вовсе не убеждала Ленина, главного критика его философии. «Думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества, или опыта одного лица опытом социально организованным, это все равно, что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной кампанией».
Именно «организационная теория», стержень философии А.А.Богданова, легла в основу планов строительства пролетарской культуры. Прямым ее следствием оказалось то, что социально-классовый опыт пролетариата прямо противопоставлялся опыту всех других классов. Отсюда делался вывод о том, что искусство прошлого или настоящего, созданное в другом классовом лагере, непригодно для пролетариата, так как отражает совершенно иной и чуждый рабочим социальный классовый опыт. Оно бесполезно или даже прямо вредно для рабочего. На этом основании Богданови Пролеткульт приходили к тотальному отказу от классического наследия.
Следующим шагом был лозунг обособления пролетарской культуры от любой другой, достижение ею полной самостоятельности. Его результатом стало стремление к полной самоизоляции и кастовость пролетарских художников. В результате Богданови вслед за ним другие теоретики Пролеткульта утверждали, что пролетарская культура является специфическим и на всех уровнях обособленным явлением, порожденным совершенно обособленным характером производственного и социально-психологического бытия пролетариата. При этом речь шла не только о так называемой «буржуазной» литературе прошлого и настоящего, но и о культуре тех классов и социальных групп, которые мыслились как союзники пролетариата, будь то крестьянство или интеллигенция. Их искусство тоже отвергалось как выражающее иной социальный опыт. М.Герасимов, поэт и активный участник Пролеткульта, так образно обосновывал право пролетариата на классовую самоизоляцию: «Если мы хотим, чтобы наш горн пылал, мы будем бросать в его огонь уголь, нефть, а не крестьянскую солому и интеллигентские щепочки, от которых будет только чад, не более». И дело здесь не только в том, что уголь и нефть, продукты, добываемые пролетариатом и используемые в крупном машинном производстве, противопоставлены «крестьянской соломе» и «интеллигентским щепочкам». Дело в том, что это высказывание прекрасно демонстрирует ту классовую надменность, которая характеризовала участников пролеткульта, когда слово «пролетарий», по словам современников, звучало так же чванливо, как еще несколько лет назад слово «дворянин», «офицер», «белая кость».
С точки зрения теоретиков организации, исключительность пролетариата, его взгляда на мир, его психологию определяет специфика крупного индустриального производства, которая и формирует этот класс иначе, чем все остальные. А.Гастевполагал, что «для нового индустриального пролетариата, для его психологии, его культуры прежде всего характерна сама индустрия. Корпуса, трубы, колонны, мосты, краны и вся сложная конструктивность новых построек и предприятий, катастрофичность и неумолимая динамика – вот что пронизывает обыденное сознание пролетариата. Вся жизнь современной индустрии пропитана движением, катастрофой, вделанной в то же время в рамки организованности и строгой закономерности. Катастрофа и динамика, скованные грандиозным ритмом, - вот основные, осеняющие моменты пролетарской психологии» . Они-то, по мысли Гастева, и обуславливают исключительность пролетариата, предопределяют его мессианскую роль преобразователя вселенной.
В исторической части своего труда А.Богдановвыделял три типа культуры: авторитарную, расцвет которой пришелся на рабовладельческую культуру античности; индивидуалистическую, характерную для капиталистического способа производства; коллективно-трудовую, которая создается пролетариатом в условиях крупного индустриального производства. Но самым главным (и губительным для всей идеи Пролеткульта) в исторической концепции Богдановаоказывалась мысль о том, что никакого взаимодействия и исторической преемственности между этими типами культуры не может быть: в корне различен классовый опыт людей, создававших произведения культуры в различные эпохи. Это вовсе не значит, по мнению Богданова, что пролетарский художник не может и не должен знать предшествующей культуры. Напротив, может и должен. Дело в другом: если он не хочет, чтобы предшествующая культура закабалила и поработила его, заставила смотреть на мир глазами ушедших в прошлое или реакционных классов, он должен отнестись к ней примерно так, как грамотный и убежденный атеист относится к религиозной литературе. Она не может быть полезна, она не имеет содержательной ценности. То же и классическое искусство: оно совершенно бесполезно для пролетариата, не имеет для него ни малейшего прагматического смысла. «Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовывать и воспитывать пролетариат, как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал».
Исходя из этого тезиса теоретики Пролеткульта формулировали основную задачу, стоящую перед пролетариатом в области культуры: лабораторное выращивание новой, «с иголочки», никогда не существовавшей и ни на что прежнее не похожей пролетарской культуры и литературы. При этом одним из важнейших условий была ее полная классовая стерильность, недопущение к ее созданию других классов, социальных слоев и групп. «По самому существу своей социальной природы союзники по диктатуре (речь, вероятно, идет о крестьянстве) не способны понять новой духовной культуры рабочего класса», - утверждал Богданов. Поэтому рядом с пролетарской культурой он выделял еще и культуру крестьянскую, солдатскую и др. Споря с Кирилловымпо поводу его стихов: «Во имя нашего завтра//Разрушим музеи,//Сожжем Рафаэля,//Растопчем искусства цветы», он отказывал ему в том, что это стихотворение выражает психологию рабочего класса. Мотивы огня, разрушения, уничтожения скорее в духе солдата, а не рабочего.
Организационная теория Богдановаобусловила идею генетической связи художника со своим классом – связи фатальной и неподдающейся разрыву. Мировоззрение писателя, его идеология и философские позиции – все это, в концепциях Пролеткульта, было предопределено единственно лишь его классовой принадлежностью. Подсознательная, нутряная связь творчества художника с его классом не могла быть преодолена никакими осознанными усилиями ни самого автора, ни внешними влияниями, скажем, идеологическим и воспитательным воздействием со стороны партии. Невозможными и бессмысленными представлялись перевоспитание писателя, партийное влияние, его работа над своей идеологией и мировоззрением. Эта черта укоренилась в литературно-критическом сознании эпохи и характеризовала все вульгарно-социологические построения 20-х – первой половины 30-х годов. Рассматривая, например, роман «Мать» М.Горького, целиком, как известно, посвященный проблематике рабочего революционного движения, Богдановотказывал ему в праве быть явлением пролетарской культуры: опыт Горькогонамного ближе к буржуазно-либеральной среде, чем к пролетарской. Именно по этой причине творцом пролетарской культуры мыслился потомственный пролетарий, с чем связано и плохо скрываемое пренебрежение к представителям творческой интеллигенции, к писателям, вышедшим из иной социальной среды, чем пролетарская.
В концепциях Пролеткульта важнейшей функцией искусства становилась, как писал Богданов, «организация социального опыта пролетариата»; именно через искусство пролетариат осознает себя; искусство обобщает его социально-классовый опыт, воспитывает и организовывает пролетариат как особый класс.
Ложные философские посылки вождей Пролеткульта предопределили и характер творческих изысканий в его низовых ячейках. Требования небывалого искусства, невиданного и по форме, и по содержанию, заставляли художников его студий заниматься самыми невероятными изысканиями, формальными экспериментами, поисками небывалых форм условной образности, что приводило их к эпигонской эксплуатации модернистских и формалистических приемов. Так наметился раскол между руководителями Пролеткультов и его членами, людьми, только что приобщившимися к элементарной грамотности и впервые обратившимися к литературе и искусству. Известно, что для человека неискушенного наиболее понятно и притягательно как раз реалистическое искусство, воссоздающее жизнь в формах самой жизни. Поэтому произведения, созданные в студиях Пролеткульта, были просто непонятны его рядовым членам, вызывали недоумение и раздражение. Именно это противоречие между творческими установками пролеткульта и потребностями его рядовых членов было сформулировано в Резолюции ЦК РКП(б) «О Пролеткультах». Ей предшествовала заметка Ленина, в которой он определил самую главную практическую ошибку в области строительства новой культуры своего давнего союзника, затем оппонента и политического противника, Богданова: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» . А в письме ЦК, предопределившем дальнейшую судьбу Пролеткульта (вхождение в Наркомпрос на правах отдела), была охарактеризована художественная практика его авторов: «Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.
Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» .
Трудно не согласиться с подобной трактовкой практической деятельности Пролеткульта в первые годы советской власти. Однако ликвидация Пролеткульта как самостоятельной организации и подчинение его государству имело и другую причину: подчинение литературы и культуры государственному контролю.
Практицизм и утилитаризм искусства получил мощное философское обоснование в теориях Пролеткульта. Эта была самая масштабная и значимая для литературно-критического процесса начала 1920-х годов организация. Пролеткульт никак нельзя назвать группировкой - это именно массовая организация, имевшая разветвленную структуру низовых ячеек, насчитывавшая в своих рядах в лучшие периоды существования более 400 тысяч членов, обладавшая мощной издательской базой, имевшей политическое влияние и в СССР, и за рубежом. Во время Второго конгресса III Интернационала, проходившего в Москве летом 1920 года, было создано Международное бюро Пролеткульта, куда входили представители Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии. Его председателем был избран А. В. Луначарский, а секретарем - П. И. Лебедев-Полянский. В обращении Бюро «Братьям пролетариям всех стран» так описывался размах деятельности Пролеткульта: «Пролеткульт издает 15 журналов в России; он издал до 10 миллионов экземпляров своей литературы, принадлежащей исключительно перу пролетарских писателей, и около 3 миллионов экземпляров музыкальных произведений разных наименований, являющихся продуктом творчества пролетарских композиторов» . Действительно, в распоряжении Пролеткульта было более полутора десятка собственных журналов, издававшихся в разных городах. Наиболее заметные среди них - московские «Горн» и «Твори» и петроградский «Грядущее». Важнейшие теоретические вопросы новой литературы и нового искусства ставились на страницах журнала «Пролетарская культура», именно здесь печатались наиболее заметные теоретики организации: А. Богданов, П. Лебедев-Полянский, В. Плетнев, П. Бессалько, П. Керженцев. С деятельностью Пролеткульта связано творчество поэтов А. Гастева, М. Герасимова, И. Садофьева и многих других. Именно в поэзии участники движения проявили себя наиболее полно.
Судьба Пролеткульта, так же, как и его идеологические и теоретические установки, во многом определены датой его рождения. Организация была создана в 1917 году меж двух революций - Февральской и Октябрьской. Рожденный в этот исторический промежуток, за неделю до Октябрьского переворота, Пролеткульт выдвинул совершенно естественный в тех исторических условиях лозунг: независимость от государства. Этот лозунг остался на знаменах Пролеткульта и после Октябрьской революции: декларация независимости от Временного правительства Керенского сменилась декларацией независимости от правительства Ленина. Именно это стало причиной последующих трений между Пролеткультом и партией, которая не могла мириться с существованием независимой от государства культурно-просветительской организации. Становившаяся все более и более резкой полемика завершилась разгромом. Письмо ЦК ВКП(б) «О Пролеткультах» (21 декабря 1920 года) не только раскритиковало теоретические положения организации, но и покончила с идеей независимости: Пролеткульт был влит в Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения, т. е. министерство по современной терминологии) на правах отдела, где и просуществовал неслышно и незаметно до 1932 года, когда группировки были ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
С самого возникновения Пролеткульт ставил перед собой две цели, которые подчас противоречили друг другу. С одной стороны, это была попытка (и вполне плодотворная) привлечения к культуре широких масс, распространение элементарной грамотности, приобщение своих членов через многочисленные студии к азам художественной литературы и искусства. Эта была хорошая цель, весьма благородная и гуманная, отвечавшая потребности людей, отторгнутых ранее от культуры судьбой и социальными условиями, приобщиться к образованию, научиться читать и воспринимать прочитанное, ощутить себя в великом культурно-историческом контексте. С другой стороны, руководители Пролеткульта вовсе не в этом видели конечную цель своей деятельности. Напротив, они ставили задачу создания принципиально новой, ни на что не похожей пролетарской культуры, которая будет твориться пролетариатом для пролетариата же. Она будет новой и по форме, и по содержанию. Эта цель вытекала из самой сущности философии, созданной основоположником Пролеткульта А. А. Богдановым, который полагал, что культура предшествующих классов непригодна для пролетариата, так как содержит чуждый ему классовый опыт. Мало того, она нуждается в критическом переосмыслении, ибо иначе может быть опасна для классового сознания пролетариата: «...при невырабо- танности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения, не пролетарий овладевает культурой прошлого, как своим наследством, а она овладевает им, как человеческим материалом для своих задач» . Создание своей, пролетарской культуры, основанной на пафосе коллективизма, и мыслилось как основная цель и смысл существования организации.
Такая позиция находила отклик в общественном сознании революционной эпохи. Суть в том, что многие современники были склонны осмысливать революцию и последовавшие исторические катаклизмы не как социальные преобразования, направленные на улучшение жизни победившего пролетариата и вместе с ним подавляющего большинства народа (такова была идеология оправдания революционного насилия и красного террора). Революция мыслилась как смена эсхатологического масштаба, как мировая метаморфоза, разворачивающаяся не только на земле, но и в космосе. Переустройству подлежит все - даже физические контуры мира. В таких представлениях пролетариат наделялся некоей новой мистической ролью - мессии, преобразователя мира в космическом масштабе. Социальная революция мыслилась лишь как первая ступень, открывающая путь пролетариату к коренному пересозданию насущного бытия, включая его физические константы. Именно поэтому столь значительное место в поэзии и изобразительном искусстве Пролеткульта занимают космические мистерии и утопии, связанные с мыслью о преображении планет Солнечной системы и освоении галактических пространств. Представления о пролетариате как о новом мессии характеризовали иллюзорно-утопическое сознание творцов революции в начале 1920-х годов.
Такое мироощущение нашло воплощение в философии А. Богданова, одного из основателей и главного теоретика Пролеткульта. Александр Александрович Богданов - человек удивительной и богатой судьбы. Он врач, философ, экономист. Революционный стаж Богданова начинается в 1894 году, когда он, студент второго курса Московского университета, был арестован и выслан в Тулу за участие в работе студенческого землячества. В этом же году он вступает в РСДРП. Первые годы XX века знаменуются для Богданова знакомством с А. В. Луначарским и В. И. Лениным. В Женеве в эмиграции он с 1904 года становится соратником последнего в борьбе с меньшевиками - «новоискровцами», участвует в подготовке III съезда РСДРП, избирается в большевистский ЦК. Уже позже его отношения с Лениным обострятся, а в 1909 году перейдут в открытый философский и политический спор. Именно тогда Ленин в своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая стала ответом на книгу Богданова «Эмпириомонизм: Статьи по философии. 1904-1906», обрушился на Богданова с резкой критикой и назвал его философию реакционной, увидев в ней субъективный идеализм. Богданов был выведен из состава ЦК и исключен из большевистской фракции РСДРП. В составленном им юбилейном сборнике «Десятилетие отлучения от марксизма (1904-1914)» он вспоминал 1909 год как важный этап своего «отлучения». Октябрьский переворот Богданов не принял, но остался до конца дней верен своему главному делу - утверждению пролетарской культуры. В 1920 году Богданова ждет новый удар: по инициативе Ленина разворачивается острая критика «богдановщины», а в 1923 году, уже после разгрома Пролеткульта, он подвергается аресту, который закрыл ему доступ в рабочую среду. Для Богданова, который всю жизнь посвятил рабочему классу, почти обожествляя его, это был жесточайший удар. После освобождения Богданов не вернулся к теоретической деятельности и практической работе в сфере пролетарской культуры, но сосредоточился на медицине. Он обращается к идее переливания крови, трактуя ее не только в медицинском, но и социально-утопическом аспекте, полагая взаимный обмен кровью средством создания единой коллективной целостности людей, в первую очередь пролетариата, и в 1926 году организует «Институт борьбы за жизнеспособность» (Институт переливания крови). Мужественный и честный человек, прекрасный ученый, мечтатель и утопист, он был близок к раскрытию загадки группы крови. В 1928 году, поставив на себе эксперимент, перелив чужую кровь, он погиб.
В основе деятельности Пролеткульта - так называемая «организационная теория» Богданова, которая выражена в главной его книге: «Тектология: Всеобщая организационная наука» (1913-1922). Философская суть «организационной теории» состоит в следующем: мир природы независимо от человеческого сознания не существует, т. е. он не существует так, как мы воспринимаем его. В сущности своей действительность хаотична, не упорядочена, непознаваема. Однако мы видим мир находящимся в некой системе, отнюдь не как хаос, напротив, имеем возможность наблюдать его гармонию и даже совершенство. Это происходит потому, что мир приведен в порядок сознанием людей. Как происходит этот процесс?
Отвечая на этот вопрос, Богданов вводит в свою философскую систему важнейшую для нее категорию - категорию опыта. Именно наш опыт, и в первую очередь «опыт социально-трудовой деятельности», «коллективная практика людей», помогает нашему сознанию упорядочить действительность. Иными словами, мы видим мир таким, каким диктует нам наш жизненный опыт - личный, социальный, культурный и т. д.
Где же тогда истина? Ведь у каждого свой опыт, следовательно, каждый из нас видит мир по-своему, упорядочивая его иначе, чем другой. Следовательно, объективной истины не существует и наши представления о мире весьма субъективны и не могут соответствовать действительности хаоса, в котором мы пребываем. Важнейшая философская категория истины у Богданова наполнялась релятивистским смыслом, становилась производной от опыта человека. Гносеологический принцип релятивности (относительности) познания абсолютизировался, что ставило под сомнение факт существования истины, независимой от познающего, от его опыта, взгляда на мир.
«Истина, - утверждал Богданов в книге “Эмпириомонизм”, - есть живая форма опыта. <...> Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины. Истина есть идеологическая форма - организующая форма человеческого опыта». Именно эта, совершенно релятивистская, посылка и дала возможность Ленину говорить о Богданове как о субъективном идеалисте, последователе Э. Маха в философии. «Если истина есть только идеологическая форма, - возражал он Богданову в книге “Материализм и эмпириокритицизм”, - то, значит, не может быть объективной истины», и приходил к выводу, что «отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм».
Разумеется, Богданов предвидел упрек в субъективизме и пытался отвести его, определяя критерий истины: общезначимость. Иными словами, в качестве критерия истины утверждается не частный опыт отдельного человека, а общезначимый, социально организованный, т. е. опыт коллектива, накопленный в результате социально-трудовой деятельности. Высшей формой такого опыта, приближающего нас к истине, оказывается классовый опыт, и в первую очередь социально-исторический опыт пролетариата. Его опыт несравним с опытом любого другого класса, поэтому и истину он обретает свою, а вовсе не заимствует ту, что была несомненна для предшествующих классов и групп. Однако ссылка не на личный опыт, а на коллективный, социальный, классовый, вовсе не убеждала Ленина, главного критика его философии: «Думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества, или опыта одного лица опытом социально организованным, это все равно, что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной кампанией».
Именно «организационная теория», стержень философии А. А. Богданова, легла в основу планов строительства пролетарской культуры. Прямым ее следствием оказалось то, что социально-классовый опыт пролетариата прямо противопоставлялся опыту всех других классов. Отсюда делался вывод о том, что искусство прошлого или настоящего, созданное в другом классовом лагере, непригодно для пролетариата, так как отражает совершенно иной и чуждый рабочим социальный классовый опыт. Оно бесполезно или даже прямо вредно для рабочего. На этом основании Богданов и Пролеткульт приходили к тотальному отказу от классического наследия.
Следующим шагом был лозунг обособления пролетарской культуры от любой другой, достижение ею полной самостоятельности. Его результатом стало стремление к полной самоизоляции и кастовость пролетарских художников. В результате Богданов и вслед за ним другие теоретики Пролеткульта утверждали, что пролетарская культура является специфическим и на всех уровнях обособленным явлением, порожденным совершенно обособленным характером производственного и социально-психологического бытия пролетариата. При этом речь шла не только о так называемой «буржуазной» литературе прошлого и настоящего, но и о культуре тех классов и социальных групп, которые мыслились как союзники пролетариата, будь то крестьянство или интеллигенция. Их искусство тоже отвергалось как выражающее иной социальный опыт. М. Герасимов, поэт и активный участник Пролеткульта, так образно обосновывал право пролетариата на классовую самоизоляцию: «Если мы хотим, чтобы наш горн пылал, мы будем бросать в его огонь уголь, нефть, а не крестьянскую солому и интеллигентские щепочки, от которых будет только чад, не более». И дело здесь не только в том, что уголь и нефть, продукты, добываемые пролетариатом и используемые в крупном машинном производстве, противопоставлены «крестьянской соломе» и «интеллигентским щепочкам». Дело в том, что это высказывание прекрасно демонстрирует ту классовую надменность, которая характеризовала Пролеткульт, когда слово «пролетарий», по словам современников, звучало так же чванливо, как еще несколько лет назад слово «дворянин», «офицер», «белая кость».
С точки зрения теоретиков организации, исключительность пролетариата, его взгляда на мир, его психологию определяет специфика крупного индустриального производства, которая и формирует этот класс иначе, чем все остальные. А. Гастев полагал, что «для нового индустриального пролетариата, для его психологии, его культуры прежде всего характерна сама индустрия. Корпуса, трубы, колонны, мосты, краны и вся сложная конструктивность новых построек и предприятий, катастрофичность и неумолимая динамика - вот что пронизывает обыденное сознание пролетариата. Вся жизнь современной индустрии пропитана движением, катастрофой, вделанной в то же время в рамки организованности и строгой закономерности. Катастрофа и динамика, скованные грандиозным ритмом, - вот основные, осеняющие моменты пролетарской психологии» . Они-то, по мысли Гастева, и обусловливают исключительность пролетариата, предопределяют его мессианскую роль преобразователя вселенной.
В исторической части своего труда А. Богданов выделял три типа культуры: авторитарную, расцвет которой пришелся на рабовладельческую культуру античности; индивидуалистическую, характерную для капиталистического способа производства; коллективно-трудовую, которая создается пролетариатом в условиях крупного индустриального производства. Но самой главной (и губительной для всей идеи Пролеткульта) в исторической концепции Богданова оказывалась мысль о том, что никакого взаимодействия и исторической преемственности между этими типами культуры не может быть: в корне различен классовый опыт людей, создававших произведения культуры в различные эпохи. Это вовсе не значит, по мнению Богданова, что пролетарский художник не может и не должен знать предшествующей культуры. Напротив, может и должен. Дело в другом: если он не хочет, чтобы предшествующая культура закабалила и поработила его, заставила смотреть на мир глазами ушедших в прошлое или реакционных классов, он должен отнестись к ней примерно так, как грамотный и убежденный атеист относится к религиозной литературе. Она не может быть полезна, она не имеет содержательной ценности. То же и классическое искусство: оно совершенно бесполезно для пролетариата, не имеет для него ни малейшего прагматического смысла. «Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовывать и воспитывать пролетариат, как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал».
Исходя из этого тезиса теоретики Пролеткульта формулировали основную задачу, стоящую перед пролетариатом в области культуры: лабораторное выращивание новой, «с иголочки», никогда не существовавшей и ни на что прежнее не похожей пролетарской культуры и литературы. При этом одним из важнейших условий была ее полная классовая стерильность, недопущение к ее созданию других классов, социальных слоев и групп. «По самому существу своей социальной природы союзники по диктатуре (речь, вероятно, идет о крестьянстве) не способны понять новой духовной культуры рабочего класса», - утверждал Богданов. Поэтому рядом с пролетарской культурой он выделял еще и культуру крестьянскую, солдатскую и др. Споря со своим единомышленником - поэтом В. Т. Кирилловым по поводу его стихов: «Во имя нашего завтра // Разрушим музеи, // Сожжем Рафаэля, // Растопчем искусства цветы», он отказывал ему в том, что это стихотворение выражает психологию рабочего класса. Мотивы огня, разрушения, уничтожения скорее в духе солдата, а не рабочего.
Организационная теория Богданова обусловила идею генетической связи художника со своим классом - связи фатальной и неподдаю- щейся разрыву. Мировоззрение писателя, его идеология и философские позиции - все это, в концепциях Пролеткульта, было предопределено единственно лишь его классовой принадлежностью. Подсознательная, нутряная связь творчества художника с его классом не могла быть преодолена никакими осознанными усилиями ни самого автора, ни внешними влияниями, скажем, идеологическим и воспитательным воздействием со стороны партии. Невозможными и бессмысленными представлялись перевоспитание писателя, партийное влияние, его работа над своей идеологией и мировоззрением. Эта черта укоренилась в литературно-критическом сознании эпохи и характеризовала все вульгарно-социологические построения 1920-х - первой половины 1930-х годов. Рассматривая, например, роман «Мать» М. Горького, целиком, как известно, посвященный проблематике рабочего революционного движения, Богданов отказывал ему в праве быть явлением пролетарской культуры: опыт Горького, по мнению Богданова, намного ближе к буржуазно-либеральной среде, чем к пролетарской. Именно по этой причине творцом пролетарской культуры мыслился потомственный пролетарий, с чем связано и плохо скрываемое пренебрежение к представителям творческой интеллигенции, к писателям, вышедшим из иной социальной среды, чем пролетарская.
В концепциях Пролеткульта важнейшей функцией искусства становилась, как писал Богданов, «организация социального опыта пролетариата»; именно через искусство пролетариат осознает себя; искусство обобщает его социально-классовый опыт, воспитывает и организовывает пролетариат как особый класс.
Ложные философские посылки вождей Пролеткульта предопределили и характер творческих изысканий в его низовых ячейках. Требования небывалого искусства, невиданного и по форме, и по содержанию, заставляли художников его студий заниматься самыми невероятными изысканиями, формальными экспериментами, поисками небывалых форм условной образности, что приводило их к эпигонской эксплуатации модернистских и формалистических приемов. Так наметился раскол между руководителями Пролеткульта и его членами, людьми, только что приобщившимися к элементарной грамотности и впервые обратившимися к литературе и искусству. Известно, что для человека неискушенного наиболее понятно и притягательно как раз реалистическое искусство, воссоздающее жизнь в формах самой жизни. Поэтому произведения, созданные в студиях Пролеткульта, были просто непонятны его рядовым членам, вызывали недоумение и раздражение. Именно это противоречие между творческими установками Пролеткульта и потребностями его рядовых членов было сформулировано в резолюции ЦК РКП (б) «О Пролеткультах». Ей предшествовала заметка Ленина, в которой он определил самую главную практическую ошибку в области строительства новой культуры своего давнего союзника, затем оппонента и политического противника, Богданова: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» . А в письме ЦК, предопределившем дальнейшую судьбу Пролеткульта (вхождение в Наркомпрос на правах отдела), была охарактеризована художественная практика его авторов: «Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.
Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» .
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 462.
Интервью с Марией Левченко о Пролеткульте - самом массовом явлении молодой послереволюционной культуры в России.
Феномен Пролеткульта, то есть пролетарских культурно-просветительных организаций, связан с одной из сердцевинных левых проблем - проблемой революционного субъекта и всеобщей сознательности. Допустим, революция совершилась. Каким должно быть сознание людей, чтобы после революции стало возможным построить по-настоящему новое общество, стремящееся к левым идеалам? По идее новую культуру должен творить каждый того желающий, - но ведь для этого необходимы знания, образование? Как тогда лучше организовать массовое просвещение? Возможно ли научить новой культуре, которую никто никогда еще не видел, и стоит ли обучаться ей у старых «буржуазных спецов»? И должна ли быть эта новая культура столь уж невиданной? Наконец, кто всё-таки должен её строить, — пролетариат, главный революционный субъект согласно ортодоксальному марксизму, или все оказавшиеся в послереволюционном мире? Об этом клубке вопросов, обсуждавшихся до и после 1917 года, «Открытая левая» поговорила с Марией Левченко, автором диссертации и книги о поэзии Пролеткульта.
«Открытая левая»:
Пролеткульт-явление хотя и невероятно массовое, но в искусствоведческой и литературоведческой науке до сих пор считающееся периферийным. Продукция, которую он породил, не вписывается в представление о «высоком» авангарде и поэтому Пролеткульт мало кто изучает. Как вышло, что вы стали им заниматься?
Мария Левченко:
Подобный вопрос мне задавали на защите кандидатской, и я в запале не ответила на него правильно, а надо было бы. Вообще, получилось с Пролеткультом все довольно случайно. Во второй половине 1990-х я занималась литературой 1920-х годов. Моими персонажами были Илья Сельвинский, Андрей Платонов и прочие. Рассматривая один поэтический сборник 1921 года в связи с Платоновым я наткнулась на стихотворение Михаила Герасимова «На вокзале», которое было страшно похоже на мандельштамовский «Концерт на вокзале» - были очень конкретные пересечения по мотивам. Ну и поскольку литературой 1920-х я занималась тогда в аспекте интертекстуальности и мифопоэтики, я очень обрадовалась и стала рассматривать параллели в этих двух стихах. И при всем совпадении и формальных пересечениях, на уровне смысла никаких параллелей не складывалось. Меня это поразило-в понимание интертекста это никак не укладывалось, и я стала изучать круг Герасимова дальше. Нашла тексты Владимира Кириллова и Ильи Садофьева, чудные по своему безумию в сочетании символизма и футуризма с прозаическими социальными мотивами. С этого начался мой интерес. Конечно, кафедра и все окружающие были в недоумении, что такое Пролеткульт и как этим заниматься. Сперва политического подтекста в моем интересе не было, но естественно, что в процессе работы над этим материалом мне пришлось с именно политическим аспектом соприкоснуться.
Выходит, столкнувшись с этим конкретным материалом, вы от модных в 1990-е постмодернистских концепций отказались в пользу социологии литературы?
Ну да, я перешла к социологии литературы, поскольку специфика этих текстов, скажем так, не объяснялась чисто литературными тенденциями. Это явление больше социальное и политическое, в чем и была загвоздка. Не получалось через текст объяснить совпадение Герасимова и Мандельштама, и поэтому возникли Александр Богданов и Ленин, а потом и всё огромное пролеткультовское течение по всей России-они оказались важнее для понимания. Но на кафедре именно социологический метод исследования ужаса не вызывал, больший ужас тогда вызывала интертекстуальность, потому что социологическая часть работы была вполне в духе советского литературоведения,- кафедра у нас с давней историей, эти вещи скорее слегка удивляли, нежели пугали. Бурдье не замечали, замечали Ленина и Богданова. Получилось так, что этот материал действительно заставил меня отказаться от постстсруктуралистских штудий мифопоэтического и интертекстуального, ведь отказалось, что социология литературы лучше работает и на этом, и на других материалах, и вот сейчас я пытаюсь описать функционирование литературного процесса в 1920-е и 1960-е, и это уже далеко от интертекстуальности.
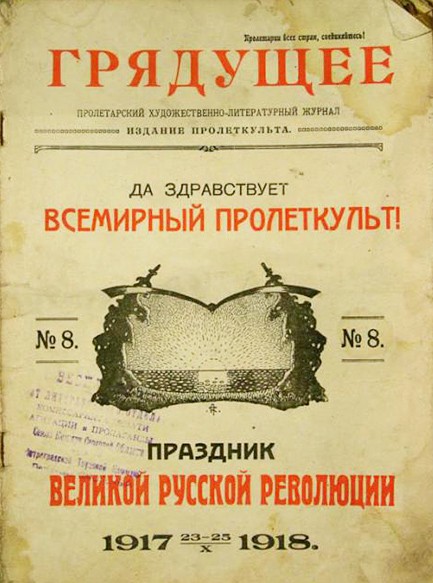
Каковы были основные концепции касательно Пролеткульта, когда вы начинали им заниматься?
В советском литературоведении Пролеткульт не занимал много места как ущербное течение, были небольшие упоминания Пролеткульта в западных монографиях, но мельком, и было несколько исторических работ, опять же западных, на которые можно было отчасти опираться.
Это одна из причин, по которым я взялась за Пролеткульт: он казался мне несправедливо обиженным. Это же большой период с 1917 по 1921 год, огромное количество текстов и людей, вовлеченных в процессы внутри и вокруг Пролеткульта, но от него отрекались. А мне казалось, что если смотреть на Пролеткульт с точки зрения авангардных систем, он занимал важное место между авангардом и соцреализмом, и мне хотелось эту несправедливость восполнить.
Такое забытье коренится ещё в истории разгрома Пролеткульта в 1920 году, важную роль в котором сыграл Ленин. Чем был, по-вашему, этот разгром – борьбой за влияние?
Если коротко, то Пролектульт был недостаточно подотчетным партии и, безусловно, да, это была война за влияние. Массовость Пролеткульта в 1920 году Ленина сильно напугала, поскольку возник риск раздвоения власти. Была некоторая конкуренция Наркомпроса и Пролеткульта, которые работали в одной сфере, и Ленину нужнее был встроенный в систему Наркомпрос, а Пролеткульт практически дублировал его функции, но куда более живо. И в результате от одного из них пришлось отказаться. Пролеткульт подчинили Наркомпросу, но разные его центры еще существовали до конца 1920-х и закрылись окончательно лишь в конце 1929-1930 году.

Насколько отличались методы Наркомпроса и Пролеткульта?
На самом деле методы у них были очень похожи, поскольку Пролеткульт был одним из первых движений, строящихся по партийному принципу, с членскими билетами и протоколами заседаний, он фактически использовал партийную схему, которая, возможно, и помогла собрать столько народу: 80 тысяч членов по России, центры фактически во всех городах и поселках… Но в Пролеткульте не очень силён был идеологический партийный контроль сверху. С конца 1919 – начала 1920 года большевики пытаются контролировать Пролеткульты, в них появляются комиссары, которые встречали порой отторжение.
Лидеры Пролеткульта еще в 1910-х годах поверили, что пролетариат – это передовой персонаж истории, и что он может сам перевернуть культуру, и не понимали, зачем нужен партийный контроль.
Но разногласия Ленина и Богданова восходит еще к более раннему времени, к их спорам о философии, об эмпириокритицизме.
Да, но Пролеткульт не был созданием Александра Богданова, Павла Лебедева- Полянского или Анатолия Луначарского. То, что у них получилось за эти 4 года после революции, – это не совсем точная реализация того, о чем писали Богданов и Лебедев-Полянский. Это было действительно массовое и стихийное движение не очень образованных масс, в котором участвовали не всегда пролетарии, но и крестьяне и интеллигенция, и которое в идеологическом плане часто противоречило само себе. И если почитать эти бесконечные журналы, которые издавали в Твери, Харькове, Самаре, то там с идеологией был полный хаос. Московский пролеткульт еще как-то пытался оглядываться на Богданова, а все остальные были далеки от следования центральной линии. Отчасти Пролеткульту не повезло, что Богданов оказался у его истоков, и во многом поэтому он пострадал в 1920 году.

А как, собственно, выглядели пролеткульты?
Это были разные помещения, где собирались люди, читали стихи, рисовали, что-то обсуждали. В Петербурге пролеткульт находился, например, на Итальянской улице, там регулярно проводились мероприятия, заседания литкружка, лекции с приглашенными лекторами. Лекторы эти как в Москве, так и в Питере были по большей части «из бывших», из старой интеллигентской литературной элиты: выступали и активно участвовали в обсуждениях Андрей Белый, Вячеслав Ходасевич, Николай Гумилев, Корней Чуковский. На занятия и секции изобразительного искусства, в драматические и музыкальные кружки приходить могли с улицы все, кто хотел, хотя, естественно, пролетариат приветствовался в первую очередь. Где-то издавались альманахи, устраивались спектакли, выпускались даже ноты для хорового пения, стихи пролетарских поэтов.
Эта идея культурно-просветительского более или менее регулярно функционирующего центра потом воплотилась в домах культуры, а началось всё с народных домов начала XX века. Некоторые из пролетарских поэтов еще до революции занимались в кружках при народных домах. Просвещением рабочих тогда занималась интеллигентская элита, и им была понятно продолжение этого дела после революции. Партийная школа на Капри в 1909 году проходила с участием будущих лидеров Пролеткульта, и позже они пытались воспроизводить знакомые модели в более глобальном масштабе.
Каковы были отношения пролеткультов с советами народных депутатов?
Отношения были в основном финансовые, в Петрограде и Москве Пролеткульт спонсировался Советами, и удивительно, что в 1918 -19 годах на деятельность пролеткультов выделялись существенные суммы. Одно издание альманахов, журналов, книг в библиотеке пролеткульта требовало существенных расходов и, кроме того, платили некоторым лекторам.

Русские писатели в Берлине в 1922 году, Андрей Белый сидит крайний слева, Владислав Ходасевич стоит второй слева.
А как выглядел разгром Пролеткульта на институциональном уровне?
На уровне ячеек было так – присылали коммисара, который начинал контролировать, что происходит, посещать заседания секций, указывать на идеологические огрехи, контролировать расписание и порядок работы. И если в 1919 – 20 году в пролеткультах были буржуазные лекторы, включая Ходасевича и прочих, то в 1921 никого не остается. Ну и постепенно снижается финансирование; остается секция изобразительного искусства, театральная секция, но уже гораздо в меньших масштабах.
Как вышло, что расцвет Пролеткульта-время, когда издавались все его многочисленные журналы-пришелся именно на тяжелейшие годы гражданской войны?
Это массовое поэтическое творчество было стремлением обрести идентичность и оформить для себя эту новую бурно становящуюся картину мира. И центральная для Пролеткульта концепция пролетарского творчества, которое должно преобразовать мир, идеально здесь подходила: она давала людям чувство собственной значимости, возможности преображения всего – тут несомненно влияние русского космизма. Отсюда дикие количества стихотворных текстов. Они были средством преображения реальности, и они давали идеологию, за которую можно было ухватиться. Именно в этом коллективном пролеткультовском творчестве с использованием старых буржуазных форм самими массами, а не сверху, выкристаллизовывались те формулы, которые будут позже использованы для оформления соцрелизма.

Это любопытная идея. Как вы понимаете связь продукции Пролеткульта и соцреализма?..
На мой взгляд, связь Пролеткульта и соцреализма – эволюционная. Соцреализм воспринял, с одной стороны, выхолощенный авангард, с другой, набор пролеткультовских схем с их доходчивостью, простотой литературной формы, определенного типа лирическим героем.
Конечно, здесь нет прямой преемственности. Кириллова и Герасимова, например, расстреляли. Но один из немногих выживших пролеткультовских лидеров, Илья Садофьев, перестроился на типичного советского поэта, в 1924 он посвящает сборник гибели Ленина, а дальше вплоть до 1960-х годов продолжает творить, причем уродует свои старые пролеткультовские стихи, подгоняя их под новую модель творчества.
Пролеткульт был забыт, и после 1932 года и постановления о перестройке литературно-художественных организаций ушла в прошлое вообще вся концепция пролетарской культуры.
Да, но он выполнил функцию, показал схему, по которой дальше работать, и нужда в нём отпала. Тем более, что массовое творчество уже не было нужно, и достаточно было упорядоченного Союза писателей, который опять же строился по партийной схеме. Ушло в 1930-е на периферию не столько пролетарское, сколько коллективное, оно ушло в другие виды искусств, народный театр, кружки самодеятельности, живущие, например, в местных домах культуры, но уже без пролеткультовской стихийности.

Вы говорили про разные идеологические отклонения в провинциальных пролеткультах,-как, например, люди в них понимали задачи пролетарского искусства и что вызывало тревогу у центральной власти?
В пролеткультах порой оказывались на важных позициях совершенно случайные или неуместные персонажи. Например, в тверском пролеткульте в 1917 году руководство взял на себя одиозный персонаж Иероним Ясинский, черносотенец и писатель конца XIX века. У него есть несколько всерьез черносотенных романов, а в 1918 он прибился к Пролеткульту, писал Луначарскому прожекты. В его деятельности принимали участие его дочь и ее муж, и их тексты, которые они публиковали в тверском альманахе, были, с одной стороны, пересказом правильных большевистских лозунгов, а с другой, им важнее были концепции индивидуального творчества, и их тексты отличаются от текстов, например, Лебедева-Полянского. За знакомство с Ясинским в свое время Максим Горький выговаривал Леониду Андрееву, объясняя, что Ясинский нерукопожатный человек. И есть версия, что отношения Горького с Пролеткультом испортили именно из-за Ясинского. Горький в 1910-х годах был важнейший персонаж для идей пролетарской культуры, а после 1917 отошел и охладел, хотя, казалось бы, самое время было ему с пролеткультовцами объединиться.
А были ли какие-то внутренние чистки в Пролеткульте?
Ну, Ясинский сам как-то рассосался к 1920 году, а вообще Пролеткульт внутренней чисткой не занимался, но были разного рода идейные разборы. Тут есть забавный сюжет: я читала архивный протокол заседаний московского литотделения, где около года активно преподавал Андрей Белый, и вот на одном заседании разбирали стихи молодых рабочих, и Белый осуждает их, потому что они недостаточно пролетарские. Но это не внутренняя чистка, а скорее попытка скорректировать то, что выходит из под пера пролетарских поэтов. И смешно, что Белый перепролеткультил здесь пролеткультовцвев, он был страшно увлечен идеями пролетарской культуры. Но такого, что «это не наши стихи, иди отсюда» не было, занимались скорее процессом выращивания. А сорняки не выпалывали.

Журнал «Стрекоза» с карикатурой на Иеронима Ясинского.
Какие основные обвинения выдвигались Пролеткульту?
Были упреки разного уровня. Например, что Пролеткульт слишком поддается влиянию старой культуры, и это действительно справедливый упрек, символистских эпигонов было много. Был упрек, что он нечетко выдерживает партийную линию. Был упрек в излишней стихийности, нехватке порядка, в не вполне тщательном слежением за лекторами. Например, осуждали, что Белый преподавал в московском пролеткульте. Раздражало, как я говорила, что Пролеткульт оказался дублем Наркомпроса, но этот момент в меньшей степени педалировался, хотя постоянно прочитывается между строк.
Важным для дискуссий был вопрос, как может родиться пролетарская культура, вот Ленин говорил, что она не может выскочить из ниоткуда. Так откуда она может выскочить?
Эта обвинение Лениным Пролеткульта, гласящее, что пролетариат не выскочит из ниоткуда, это натяжка: хотя принято писать, что Пролектульт родился после конференции 1917 года, но на самом деле уже более десяти лет, с 1904-1905 годов большевики занимались сознательным пестованием этой культуры, поддерживали низовое творчество. И деятельность газеты «Правда», и партшколы в Европе, и то, что делал Горький с опекой пролетарских писателей,– это все была уже очень длинная история к 1917 году, и поэтому Пролеткульт и не выскочил из ниоткуда. Например, газета «Правда» под руководством Ленина не только печатала стихи, но и настаивала на том, чтобы читатели присылали стихи и очерки.

Еще говорили, что пролетарий должен выявить себя. Что имели ввиду?
Это связано с концептом сознательности, так как только осознавая себя, пролетариат становится пролетариатом с большой буквы. Сознательность и стихийность, как то указывает, например, исследовательница Катарина Кларк, – это важная дихотомия для раннесоветской культуры. И если пролеткульт был стихийным, то Союз писателей уже предполагает абсолютную сознательность пролетариата.
Вопрос в том, что делает пролетария пролетарием? Если работа на заводе, то соответственно, именно в этом и будет суть его творчества. А если его от станка увезти и привести на лужок в лес, это уже будет уже не то. Суть пролетарского творчества – это стихи пролетария о своем пролетарском, о том, что его делает ценным, важным, авангардным. И поэтому до революции и Герасимов, и Кириллов не только пишут стихи, но и работают, причем в каких-то французских и бельгийских шахтах, – изгнанные из России, они путешествуют по Европе, работают на заводах и продолжают творческую биографию. По идее пролетарий, работающий у станка, должен именно этот ритм и дух претворять в стихах. Тут всплывает еще идея кольцевого развития: что искусство, возникая сперва как некое сакральное действо и органично развиваясь, в финале должно прийти к такому же действу, но теперь ритм должен быть ритмом труда.

Это похоже на идеи Алексея Гастева.
Да, безусловно, он издавался в библиотеке Пролеткульта и был идейно близок к ним. Интересный произошел перелом: если до революции пролетарские поэты пишут про завод, что это мучения, страдания, духота, что процесс труда чудовищен, то после революции они принимают больше концепцию авангардности пролетариата, и у них меняются коннотации. Труд становится счастьем, ценностью, и наиболее органичное пространство это уже не лужок и лес, а завод. Крестьянский мир с его близостью к природе считался в этой парадигме более диким, более пронизанным угнетением.
А в деревнях, скорее всего, не было пролеткультовских ячеек?
Как ни странно, было много поселковых пролеткультов. Но в деревнях до революции была своя линия просвещения, связанная с народничеством.
Интересно, что пролеткультовская поэзия хоть как-то известна, а пролеткульт в истории искусства не представлен практически ничем – хоть что-нибудь сохранилось, какие-то рисунки?..
Изобразительного материала по Пролеткульту практически нет, хотя устраивались целые выставки, нет и ничего, что касалось бы танца и деятельности театральной группы. Отдельные страницы попадаются в воспоминаниях у Александра Мгеброва, у Сапожниковой. Кинематограф 1920-х годов тоже связан с пролеткультовскими центрами, но и об этом материала почти нет. И по архивам толком никто не восстанавливал, что там происходило, хотя есть публиковавшиеся в журналах описания мероприятий пролеткультов. Танцы, кстати, были чуть ли не бальные, а порой и весьма авангардные, – это в большой степени зависело от условий в том или ином конкретном пролеткульте. Отделения очень отличались в зависимости от того, кто попадал в идейный центр в качестве преподавателей, кто образовывал костяк группы. И по стихам это заметно: где-то совсем наивная поэзия, где-то, как в Москве, больше символистского влияния, в Петрограде – футуристического. И та же ситуация была и в изобразительном искусстве.

Пролеткультовский театр.
Кстати, можно ли понимать термин «пролеткультовский» расширительно, например, называть так художника Василия Маслова с его составленным из разных источников стилем, выходца из народа, которого поддерживал Горький и фрески которого нашли недавно в Королеве?
Очень правильно толковать пролетарскую культуру именно расширительно, она интересна как отражение духа времени, где были и близкие явления, и непохожие друг на друга.
Чем концепция пролетарской культуры начинает сейчас людей заинтересовывать? Ведь стали, например, издаваться и покупаться книги пролеткультовской поэзии.
Мы в издательстве три года назад сделали большую антологию поэзии Пролеткульта, и, как ни странно, сейчас она пользуется бешеным спросом, хотя когда мы ее выпустили, она почти не продавалась. Возможно, людей привлекает этот стихийный социализм пролеткульта. Может быть, Пролеткульт интересен как первое проявление советской культуры, ведь её раннесоветский период, когда она начинает формироваться, это период наиболее живой и интересный, например, по сравнению с тем, что было в 1930-е годы.

Как по-вашему, может ли модель пролеткульта быть базой для модели новой культурной концепции – утопической или нет? Вот у нас государство пытается делать дома нома новой культуры, но это все выглядит малоубедительно, и местными культурными центрами все равно остаются часто старые умирающие советские ДК в поселках.
Важно, что импульсом для Пролеткульта был не только толчок со стороны большевиков, во время революции и гражданской войны была огромная массовая потребность снизу в обретении обновленной идентичности. Не уверена, что сейчас есть этот спрос снизу и уж точно он не составляет продуктивного союза с тем, что спускает сверху власть.
Возможно, здесь нужна новая модель. Старые дома культуры, отдаленно наследующие пролеткультам, это, боюсь, уже отживающая свое неработающая схема, оказавшаяся на периферии важнейших культурных процессов. Наиболее сознательная и активная часть населения сейчас скорее в сети, на «Ютьюбе» и на «Теориях и практиках», занимается бесплатным онлайн обучением, слушает лекционные курсы…

Дмитрий Лукьянов. Из серии «ДКданс», 2014.
У вас ведь есть свой опыт самоорганизации – издательство Wexler
?
У нас сначала было издательство, потом мы организовали в позапрошлом году магазин. У нас не кооператив просто потому что фактически все, кто у меня работает, это мои бывшие студенты. Мы одно время практиковали анархистские коллегиальные методы управления и продержались несколько месяцев, но потом взяли передышку, может быть, мы ещё вернемся к этому. Надо воспитывать сознательность – у нас была проблема с активностью, с желанием участвовать в управлении. Это проблема ещё Кропоткина – надо сначала воспитать людей, которые могут существовать в анархистском обществе, а уж потом его создавать. Возможно, надо как-то иначе вводить эти анархистские идеи. Но, так или иначе, издательство, магазин, типография, организация лекций, – это единый комплекс, который поддерживает друг друга, и работают там одни и те же люди.
Вы можете назвать себя анархистом?
Мне очень нравится эта концепция. Она, конечно, идеалистическая, но, мне кажется, правильная.
В заголовке статьи использована цитата из стихотворения пролеткультовского поэта Владимира Кириллова.
Над материалом работали Глеб Напреенко и Александра Новоженова.














